Книга: Маисовый колос
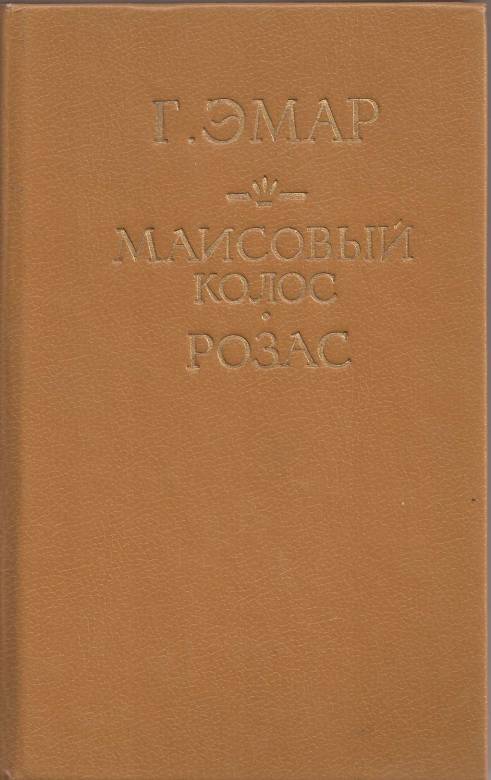
ЗАСАДА
Четвертого мая 1840 года, часов около одиннадцати вечера, шесть человек осторожно крались по двору небольшого домика скромного вида на улице Бельграно, в Буэнос-Айресе, поминутно бросая вокруг себя беспокойные взгляды.
Добравшись до ворот, один остановился и, дождавшись остальных, шепнул им:
— Нужно принять еще одну предосторожность...
— Конечно! Только и будем делать, что принимать предосторожности! — насмешливо отозвался самый младший из шестерых, из-под синего суконного, небрежно накинутого плаща которого виднелась широкая рапира.
— Зато не попадемся, — заметил первый. — Чем мы будем осторожнее и предусмотрительнее, тем лучше... Если мы войдем все сразу, это может возбудить подозрение. Нам лучше разделиться. Сначала выйдем мы трое (он указал на двух из ближе стоявших к нему товарищей), перейдем на тот тротуар и повернем налево. Через несколько минут выйдут остальные трое и повернут направо, на этой вот стороне. Сборным пунктом пусть будет улица Балькарсе, в том месте, где она пересекается с этой улицей.
— Хорошо, — ответили все.
— Идите, Кордова, и вы, — сказал первый, отворяя ворота.
Пропустив его вперед, незнакомец взял под руку молодого человека, вооруженного рапирой, и быстро последовал за Кордовой.
Минуты через три вышли из ворот остальные трое и повернули направо.
Пройдя несколько шагов молча, незнакомец, предложивший идти порознь до перекрестка, проговорил, обращаясь к молодому человеку с рапирой:
Ах, друг мой, в каком отвратительном положении мы находимся! Быть может, мы сейчас в последний раз ступаем по земле нашего города. Мы эмигрируем, чтобы вступить в ряды армии, предназначенной для кровопролитных сражений, и Бог весть, чем окончится эта война,
— Это верно. Но что же нам остается делать? — произнес молодой человек и немного спустя добавил:— Положим, есть человек, который думает совершенно иначе, чем все мы.
— Что же именно он думает?
— Он находит, что нам следовало бы остаться в Буэнос-Айресе.
— Несмотря на Розаса?
— Несмотря на Розаса.
— И не идти в армию?
— Да.
— Ну, этот человек или низкий трус или масгорковец!
— Вовсе нет. Он не трус и не масгорковец. Мужество его не подлежит ни малейшему сомнению, и вообще он один из самых благородных и честных людей нашего времени.
— Что же нам, по его мнению, следует делать?
— Оставаться в Буэнос-Айресе, как я уже говорил; потому что враг, которого мы хотим уничтожить, находится здесь, а не в армии. Он думает, что на улицах города может пасть в день восстания гораздо меньше, нежели в открытом поле, где дело редко оканчивается одним сражением. Но довольно об этом. Не нужно забывать, что в Буэнос-Айресе сам воздух слышит, свет видит, пыль на мостовой комментирует.
Проговорив это грустным голосом, молодой человек поднял к небу большие черные печальные глаза, еще более оттенявшие бледность его красивого лица.
В продолжение этой беседы Кордова, шедший впереди, незаметно замедлял шаги, и раз даже остановился, как бы для того, чтобы поплотнее завернуться в пончо. Дойдя до перекрестка, он снова остановился и тихо сказал:
— Вот и улица Балькарсе, где мы обещали ждать своих товарищей.
— Хорошо ли вы знаете место, где стоит китоловка? — спросил молодой человек.
— Как нельзя лучше, — самоуверенно ответил Кордова. — Я взялся провести вас туда и сумею сдержать свое слово, как сдержали вы свое, заплатив мне по уговору... Кстати, я взял эти деньги не для себя лично, потому что не меньше других люблю свое отечество, а для людей, которые должны переправить вас на тот берег... Вы скоро увидите, что это за люди,— прибавил он каким-то странным тоном.
Молодой человек пронзил взглядом косоглазого Кордову и хотел еще что-то сказать, но в это время подошли остальные, и один из них заметил:
— Теперь нам следует держаться друг друга, как можно ближе. Ступайте вперед, Кордова, и ведите нас.
Кордова молча повиновался. Пройдя Венесуэльскую улицу, он свернул в переулок Хуана-Лоренсо, по которому спустился до реки, мирно катившей волны между нелепых берегов. Все неслышно следовали за ним.
Ночь была тихая. На темно-голубом небе сверкали мириады звезд. С юга дул холодный ветер, предвещавший приближение зимы.
При слабом мерцании звезд можно было видеть, что серебристая поверхность Рио-Платы так же пустынна, как пампасы. Глухой шум ее волн казался сонным дыханием великана.
Взгляд теряется в громадности реки; едва различаешь вдали колеблющиеся огоньки судов, стоящих на рейде. Сам город обрисовывается в нескольких стах шагах от берега темной, бесформенной, гигантской массой, Царствующее вокруг безмолвие не нарушается ничем, кроме ропота волн, скользящих по песчаному дну и тихо ударяющих в низкие, песчаные берега...
Каким безотрадным должно было показаться это пустынное место в глухую полночь людям, которые пользовались сном сограждан, чтобы бежать из своего отечества, стонавшего под игом диктатуры. Этим людям оставалось одно: или погибнуть от кинжалов Mac-Горки, если они будут открыты, или распроститься с родиной, с любовью и счастьем и довериться утлой ладье, чтобы перебраться на чужую землю — на поиски свободы, и с оружием в руках отстаивать эту свободу.
Тюрьмы были переполнены, то и дело происходили казни тех, кто осмеливался говорить правду, и в довершение всего этого стали совершаться убийства из-за угла членами Mac-Горки, разбойничьего клуба, от которого даже друзья знаменитого Марата с ужасом отвернулись бы.
Полными страха были и сердца людей, направлявшихся теперь во мраке ночи вдоль берега реки с намерением эмигрировать. Это было преступление, за которое наказывали смертью.
Проводник, шедший впереди, был Хосе Кордова, человек из народа, из того самого народа, который по платью принадлежит к цивилизации, а на самом деле глубоко презирает ее, и внутренне гораздо хуже настоящих дикарей, хотя и смотрит на них свысока.
Непосредственно за ним шел полковник дон Пабло Салазар, ветеран 1813 года. Он принадлежал к высшему обществу и отличался необыкновенной красотой. Это был тот, который первым заговорил у ворот дома, откуда они вышли.
Рядом с ним следовал молодой человек с рапирой — дон Луис Бельграно, родственник знаменитого генерала Бельграно и обладатель громадного состояния, собранного путем частного получения наследств. Храбрый, великодушный, образованный и начитанный, дон Луис мог считаться образцом благородного человека.
Остальные были чистокровные аргентинцы, одного из них звали Пальмеро, другого — Сандовалем, а третьего — Маркесом.
Наконец, все дошли до того места набережной, против которого возвышался дом, занятый английским послом, сэром Вальтером Спрингом. Тут Кордова остановился и сказал:
— Вот здесь должна пристать китоловка.
Его спутники старались разглядеть реку в страстном нетерпении скорее увидеть судно, на котором они собирались бежать, между тем проводник отвернулся от реки и смотрел в противоположную сторону, напряженно прислушиваясь к чему-то. Немного погодя, он снова обернулся к своим спутникам и проговорил:
— Пройдемте немного дальше; может быть, китоловка пристала пониже.
Беглецы молча последовали за ним.
Но едва они успели пройти несколько десятков шагов, как полковник Салазар заметил впереди какую-то неопределенную массу, и только хотел сообщить об этом товарищам, как грозное «кто идет?» прорезало ночную тишину и заставило беглецов оцепенеть от ужаса.
— Не откликайтесь,— шепнул им Кордова. — Я пройду вперед и разузнаю, много ли там людей, а вы постойте здесь.
Не дожидаясь ответа, он двинулся по направлению к темной, слегка колебавшейся массе, преградившей путь, сначала обыкновенным шагом, а потом бегом и, немного погодя, резко свистнул.
При этом сигнале масса пришла в движение и в одно мгновение налетела на завлеченных в засаду людей; это был отряд конницы, человек в пятьдесят, нарочно прибывших сюда, чтобы захватить беглецов.
Полковник Салазар едва успел выхватить из-под плаща пистолет, находившийся у него за поясом, как был сбит с ног налетевшей на него лошадью.
Пальмеро и Маркес выстрелили в середину отряда, но были опрокинуты на землю.
Сандовалю удалось вонзить свой кинжал в грудь лошади, наскочившей на него, но это привело лишь к тому, что животное при падении подмяло его под себя, а всадник, высвободившись из стремян, докончил полураздавленного человека ножом.
Салазар, Пальмеро и Маркес, тоже страшно помятые копытами лошадей, почувствовали, как их схватили за волосы и как холодные клинки ножей искали их горла, между тем, резкий, повелительный голос выкрикивал распоряжения и проклятья.
Несчастные беглецы отчаянно бились на земле, призывали на помощь, старались защититься голыми руками от направленных в них кинжалов и ножей; но острые клинки прорезали им руки, отрубили пальцы и все-таки вонзились в горло, откуда вместе с потоками горячей крови вылетела душа.
Между тем, как убийцы обшаривали карманы жертв, четверо из их товарищей шагах в ста возились с человеком, который защищался с мужеством отчаяния и дорого продавал свою жизнь. Это был дон Луис Бельграно, которому удалось уклониться от напора конницы и отбежать немного в сторону. Несмотря на темноту, его, однако, заметил один из всадников и погнался за ним. Поняв, что ему не убежать, дон Луис сдернул с себя плащ и обвил им левую руку, затем выхватил шпагу и, обернувшись лицом к неприятелю, стал в оборонительную позу.
К всаднику присоединился другой. Когда оба они подъехали на достаточно близкое расстояние, дон Луис поднял левую руку в виде щита, ударил ближайшего к нему всадника рапирой в грудь и снова бросился бежать. В то же мгновение подоспели еще трое всадников, привлеченных предсмертным криком своего товарища, и вместе бросились догонять молодого человека. Быстро обернувшись, беглец могучим ударом рассек шею переднего коня, который упал, увлекая за собою и всадника. Последний, однако, остался невредим. Вскочив на освободившуюся от мертвого товарища лошадь, которую вели на поводу, он вместе с тремя остальными поскакал вдогонку за беглецом. Молодой человек снова обернулся и ударил еще одну лошадь.
— Что нам зря губить лошадей! — крикнул один из всадников. — Лучше оставим их здесь. Справимся и так.
Все спешились и бросились на дона Луиса, снова успевшего отступить на несколько шагов. С быстротой молнии молодой человек нанес одному из своих врагов рану в руку, другому — в голову, и вновь отскочил в сторону. Раненые кинулись на него с удвоенной яростью; и одному из них еще не пострадавших товарищей удалось накинуть молодому человеку на голову свое пончо. Дон Луис нисколько не смутился этим. Быстро освободив левую руку от своего плаща, он сдернул с себя пончо, не переставая в то же время правой рукой наносить во все стороны страшные удары. Однако, в тот момент, когда он сбрасывал тяжелое пончо, закрывшее было ему все лицо, один из нападавших ранил его в левый бок, а другой — в правое плечо.
— Ну, этим вам еще не удастся взять меня! — крикнул он, и двумя быстрыми, ловкими ударами уложил двух из своих противников, в том числе и того, которого перед тем ранил в голову. Но при последнем ударе он поскользнулся в луже крови и упал. Мужество и хладнокровие его были так велики, что он и теперь не растерялся, хотя оставшиеся двое противников уже торжествовали победу.
Силясь подняться, он продолжал размахивать рапирой. Однако бой был слишком неравен. Пока один из нападавших наносил ему удар саблей в левое бедро, что лишило его возможности даже пошевельнуться от страшной боли, другой схватил его за волосы, ударил головою о землю и, став коленом ему на грудь, крикнул:
— Наконец-то ты в нашей власти!.. Теперь не уйдешь, нет! Дай-ка мне свой нож, а то неловко резать саблей, — обратился он к своему товарищу.
— На, — отвечал тот, протягивая нож.
Дон Луис был почти без чувств, когда над ним сверкнул нож, которым с торжествующим хохотом размахивал разбойник.
ИЗБАВИТЕЛЬ
В то мгновение, когда дон Луис уже прощался с жизнью, раздался выстрел, и убийца упал бездыханным на того, которому готовился нанести решительный удар.
— Теперь твоя очередь! — произнес спокойным голосом человек, неизвестно откуда появившийся, приближаясь с дымящимся пистолетом в руке к последнему из противников дона Луиса. Однако разбойник не стал дожидаться. Видя, что дело плохо, он повернул назад и быстро скрылся в темноте.
Незнакомец, точно свалившийся с неба, не захотел его преследовать. Поспешно нагнувшись к неподвижно лежавшему дону Луису, он несколько минут пристально вглядывался в него и потом с ужасом прошептал:
— Боже мой, да ведь это молодой Бельграно! Вот уж никак не ожидал подобной встречи!
Сбросив с бесчувственного молодого человека труп убийцы, незнакомец осторожно приподнял неподвижное тело Бельграно и прижав его красивую голову к своей груди, снова прошептал:
— Господи! Неужто я опоздал? Неужели он умер? Нет, нет, он жив!— чуть не крикнул во весь голос незнакомый избавитель, почувствовав легкое дыхание на своем лице.— Слава Богу, я явился вовремя!
Подняв голову, он тревожно оглянулся и прислушался. Все вокруг было по-прежнему спокойно и безмолвно.
Подняв раненого на руки, он поспешно направился с ним к городу. Однако минут через двадцать он остановился и с отчаянием произнес:
— Ах, Боже мой! Волнение лишает меня сил... я не в состоянии нести его дальше... захватывает дух... О, Господи, что же теперь делать?
Он тихо опустил бесчувственного Бельграно на землю, сел возле него и прошептал на ухо:
— Луис, ты слышишь меня? Я — Мигель, твой друг, твой брат, слышишь?
Раненый с усилием повернул голову и открыл глаза.,
— Ты... Мигель? — едва слышно произнес он. — Зачем ты тут? Беги, Мигель, спасайся...
— Нет, я от тебя не убегу, Луис! — ответил незнакомец, поднявшись на ноги и нагибаясь над ним. — Давай-ка, я опять попробую играть роль няньки... Ухватись покрепче руками за мою шею... Боже мой, да ты ранен в правую руку, следовательно, сражался левой?.. И только подумать, что меня не было с тобой, когда я был тебе всего нужнее! — добавил он голосом отчаяния, снова стараясь поднять своего друга на руки.
Свежий ветерок окончательно привел в себя раненого. Скрывая свои страдания, он сказал по возможности твердым голосом:
— Дай мне только опереться на твою руку, Мигель; мне кажется, я могу идти сам.
— Нет! — ответил незнакомец. — Я вижу у тебя течет кровь и из бока, а с такой раной едва ли можно ходить... даже такому стоику, как ты... Да отсюда недалеко; я донесу тебя.
Действительно, бедро дона Луиса было рассечено почти до кости, и кровь сильно лилась из раны. Едва ли он был бы в состоянии сделать хотя бы шаг.
Незнакомец с громадным трудом посадил раненого себе на спину и понес его. Шагов через пятьдесят он дошел до глубокой траншеи, которую недавно начали рыть неподалеку от боковой степы дома английского резидента.
Спустившись в эту траншею, незнакомец посадил своего друга спиной к стене и проговорил, садясь рядом с ним:
— Теперь скажи мне, куда ты еще ранен?
— Не знаю, — слабым голосом ответил Бельграно. — Я чувствую боль во всем теле, но ранен, кажется, только в эти два места.
И, взяв руку приятеля, он поочередно приложил ее к своему правому плечу и к левому бедру.
— Ну, это пустяки! — произнес незнакомец, обнимая его. — Это не так опасно...
От порывистого и крепкого объятия друга дон Луис глухо вскрикнул.
— Боже мой, что с тобой?!— воскликнул испуганный Мигель.
— Я должно быть... да... действительно... я ранен и здесь, — пролепетал Бельграно, указывая на левый бок. —
— Но хуже всего болит рана в бедре... Сначала было не так... заметно... а... теперь... все... сильнее и сильнее...
— Постой, я сейчас перевяжу тебе рану; хоть кровь немного остановится,— говорил Мигель, доставая из кармана носовой платок. — Вот так! Ну, а теперь где еще больно, кроме правого плеча? Тут вот, что ли? возле спины? Да, да... кровь... рана... И это есть чем перевязать; на счастье я запасся сегодня двумя платками... Эк ведь тебя, бедняжку, как отделали эти мерзавцы!
Мигель нарочно болтал так развязно, чтобы не выказать тревоги, овладевшей им при виде страшных ран Луиса, и не запугать приятеля.
Откуда-то вдруг донеслись в траншею звуки фортепьяно, точно дразня укрывшихся в этой сырой могиле молодых людей.
— А!— воскликнул Мигель, заканчивая перевязку,— Английское превосходительство развлекается... Да ведь я слышал, что у него сегодня званый вечер...
— В доме веселье... а у ворот... убивают... местных… граждан! — с горечью прошептал Бельграно.
— Это в порядке вещей, — заметил Мигель. — Сэр Вальтер Спринг вполне достойный представитель той прелестной дамы, которую зовут Англией и которая поет и пляшет вокруг трупов, точь-в-точь как готтентотские вдовы, с той лишь разницей, что последние беснуются с горя, а первая — с радости.
Дон Луис невольно улыбнулся на шутку своего друга и собирался что-то ответить, как вдруг Мигель зажал ему рот рукой и прошептал, ощупывая рукоять своей шпаги.
— Молчи! Я слышу шум...
Действительно, послышался топот приближающихся лошадей, смешанный с глухим говором голосов. Через некоторое время можно было слышать не только сами голоса, но и то, о чем говорили.
— Знаешь, что? — говорил один из всадников. — Мне вовсе не хочется заезжать в шинок, а лучше прямо домой... Давай-ка сосчитаем тут деньги, благо никто не увидит. Высечем огня, закурим по сигаре и будем считать при их свете.
— Ладно, — ответил другой голос. — Мне все равно... Вот тут кстати насыпь, на ней мы и сядем.
Всадники — их было двое — спешились, причем послышался звон сабельных ножен о землю. Взяв своих лошадей за поводья, они уселись на насыпи, в нескольких шагах от дона Луиса и его друга, скрытых на дне траншеи.
Один из незнакомцев высек огонь и закурил огромную сигару.
— А ты разве не будешь курить? — спросил он товарища.
— Нет, после, — ответил тот.
— Ну, так давай считать. Передавай мне бумажки, только по одной.
Товарищ снял шляпу и вынул из нее пачку банковских билетов. Вытащив одну бумажку, он передал ее курившему. Тот сильно пыхнул из сигары, держа ее над билетом, который сразу осветился красным огоньком.
— Сто? — произнес тот, который дал билет и заглянул на него через плечо товарища.
— Да, — отвечал последний, выпуская густое облако дыма изо рта и ноздрей.
Описанная процедура повторилась тридцать раз; все бумажки оказались сотенными.
Разделив пополам три тысячи пиастров и передав товарищу полторы тысячи, куривший сигару проговорил недовольным тоном:
— Я думал — больше! Если бы удалось укокошить того молодчика, нам достался бы его кошелек, он, кажется, был набит золотом.
— Ну, что же делать, и то хорошо, — заметил другой. — А не знаешь, куда стремились эти унитарии? Не в армию ли Лаваля?
— Конечно, туда... куда же еще? Хорошо бы они все задумали бежать. Нам почаще доставались бы такие заработки.
— А вдруг в один прекрасный день явится сюда Лаваль и ему донесут на нас?
— Ну, что ж из этого?.. Мы исполняем приказания начальства и сами, мол, ни при чем... Да можно будет вовремя и приостановиться. А пока что, я готов дать себя убить за реставрадора; недаром я числюсь доверенным человеком у коменданта.
— Да, полагайся на него!.. Посмотри, что он сделает с нами, если мы, по несчастью, упустим хоть одного из тех, которых он приказывает убить! Не обрадуешься его доверию!.. И то недавно один улизнул от нас...
— Да, малый ловкий. Но комендант послал разыскивать его по всем направлениям — в поле и в городе... Может быть, еще он нам попадется с Божьей помощью. Я слышал, что он укокошил пятерых наших…
— Ого! Значит, опасный зверь... Хорошо бы его поймать.
— Держи карман. Поймаешь ветер в поле!.. Разве только, говорю, по особому счастью, нечаянно попадется... Так ты домой?
— Домой!— ответил куривший. — А ты куда?
— В шинок... Хорошо мы с тобой придумали, что отпросились на ночь: по крайней мере, я погуляю всласть! А ты, скупердяй, припрячешь свои денежки в безопасное местечко. Впрочем, это твое дело... Ну, отправляемся, что ли?
— Можешь отправиться и один... Все равно нам не по дороге. А я еще посижу, пока не докурю сигару.
— Ну, как знаешь... До свидания, дружище. Покойной ночи, приятного сна!
— А тебе — веселой ночи!
Тот, который доставал деньги из шляпы, вскочил па лошадь и, пришпорив ее, ускакал.
Когда в отдалении замер топот копыт, куривший достал из кармана какой-то предмет, поднес его к огню сигары и принялся подробно рассматривать.
— Золотые часы! — пробормотал он, поворачивая их во все стороны. — Никто не видел, как я взял эту вещицу; значит, что выручу за нее, все мое... А славная вещичка... Ходят! — продолжал он, поднося часы к уху. — Жаль, что я не знаю, как узнавать по ним время... Эта наука унитарская и слишком мудреная для нашего брата... Полагаю, что теперь уж за полночь, и что...
— Теперь последний час твоей жизни! — воскликнул дон Мигель, подкравшись к нему сзади из траншеи и с силой ударяя его концом шпаги между шейными позвонками.
Испустив короткий стон, негодяй упал мертвым.
Дон Мигель взял его лошадь под уздцы, подвел ее к траншее и привязал к лежавшему там толстому бревну. Затем он спустился к своему другу и, обнимая его, сказал:
— Вот ты и спасен, Луис! Провидение послало нам лошадь, на которой ты поедешь...
— Да, если ты... будешь... поддерживать... меня, — ответил Бельграно, с трудом переводя дух.
— Поддержу, не бойся... Ну, давай, сначала, я помогу тебе подняться наверх, потом вылезу сам и усажу тебя па лошадь...
— Нет, ты лучше сам садись на нее, а меня уложи поперек... Мне не усидеть на ней, если даже ты будешь держать — проговорил дон Луис внезапно окрепшим от возбуждения голосом.
— Кое-как, с громадными усилиями Мигель вынес своего друга из траншеи и уложил поперек лошади, а сам уселся сзади него. Затем, крепко придерживая его одной рукой, а другой управляя конем, он направился к переулку, соседнему с домом английского посла.
— Куда ты везешь меня? — спросил дон Луис. — Если ко мне домой, то лучше не трудись: мой дом заперт и ключ у слуги, которого я отпустил до утра.
— Какого ты плохого мнения обо мне! Неужели я повезу тебя по самой людной улице, где нас сейчас же могут сцапать — меня в качестве разбойника, везущего мертвое тело, а тебя... Ну, да я заврался немного...
— Так уж не к себе ли ты хочешь меня везти? — перебил дон Луис, делавший страшные усилия, чтобы не кричать от боли, причиняемой ему тряской и неудобным положением.
— Боже избави! — возразил дон Мигель. — Я за всю свою жизнь не делал глупостей, ограничиваясь только чем, что болтал их; везти же тебя в мою квартиру было бы самой глупой из всех глупостей.
— Так куда же ты намерен девать меня?
Это уж мой секрет... Пока прошу тебя помолчать, потому что мы въезжаем в город... Держись крепче за меня... Голову повыше... вот так, а то она отечет.
Выбирая самые глухие улицы, дон Мигель проехал улицей Реконквист и направился к предместью Барракас. Миновав улицу Дель Бразил и Патагонес, он завернул в узкий, грязный и совершенно темный переулок, в котором ютились лишь мелкие воришки, бродяги и тому подобный сброд, и куда решалась заглядывать полиция только в самых исключительных случаях.
После нескольких поворотов по таким же переулкам, дон Мигель, наконец, очутился на Калле-Ларга посреди предместья Барракас. К счастью, во все время пути им не попалось ни души, так как было уже поздно. Лишь кое-где светились еще в домах огни.
— Вот мы и добрались, — заявил дон Мигель, — остановившись перед небольшим, ноочень красивым домом, из окон которого, сквозь белые кисейные занавеси, тоже пробивался свет.
— Куда? — спросил дон Луис, приподнимая немного голову.
— Куда нужно... Сейчас узнаешь все.
Просунув палец сквозь наружную решетку одного из окон, дон Мигель тихонько постучался.
Очевидно, его не слышали, потому что в доме все оставалось тихо. Он постучал вторично.
— Кто там? — послышался, наконец, из-за занавески испуганный женский голос.
— Это я, Гермоза, я — Мигель, твой кузен.
— Мигель? — повторил голос тоном недоверия.
— Да я же, ей Богу я, Гермоза!
Занавеска откинулась, окно отворилось и из него выглянуло прелестное личико молодой женщины, одетой в черное.
При виде двух всадников на одной лошади, из которых один казался мертвым, она с восклицанием ужаса откинулась назад.
— Не пугайся, Гермоза, — проговорил дон Мигель.— Это мой лучший друг. Он ранен... Отопри скорее дверь, только не буди прислуги, сделай это сама.
— Однако, Мигель... — начала было молодая женщина.
— Ну, пожалуйста, отпирай скорее! — нетерпеливо перебил дон Мигель. — Если ты еще будешь медлить, мы тут оба пропали, поняла теперь?
— А! Сейчас, сейчас!
С этими словами молодая женщина заперла окно и бросилась в переднюю. Вскоре послышалось щелканье отпираемого замка, наружная дверь отворилась, и на ее пороге показалась Гермоза.
— Входите, — сказала она.
— Я-то войду, а этого молодого человека надо нести, — ответил дон Мигель, осторожно сходя с лошади, чтобы не уронить раненого. — Помоги-ка мне, милая кузина.
Молодая женщина молча, совершенно забыв женскую щепетильность, подошла и, по указанию кузена, взяла дона Луиса за плечи, между тем, как ее кузен ухватил его за ноги. Вдвоем они сначала сняли раненого с лошади, а потом внесли его в дом, где и положили на мягкую софу в гостиной.
— Благодарю вас, сеньорита, благодарю! — пролепетал дон Луис.
— Не за что... Вы ранены?.. Ах, Боже мой, и даже в нескольких местах! — с новым ужасом воскликнула молодая женщина, увидев, что он весь в крови.
— Да, сеньорита...
— Ничего, мы сейчас основательно займемся твоими ранами, которые, слава Богу, не из опасных, — проговорил дон Мигель.
— Подождите меня минутку. Я только пойду и отправлю нашу лошадь домой и запру дверь.
С этими словами он выскочил на улицу, повернул ожидавшую у крыльца лошадь по направлению к мосту в конец улицы и изо всей силы ударил ее по шее. Умное животное фыркнуло и поскакало, поняв, что лучшего тут ожидать нечего.
Затем дон Мигель возвратился в дом, тщательно запер наружную дверь и поспешил в гостиную, где Гермоза уже хлопотала возле раненого.
ГОСТЕПРИИМСТВО
Роскошно убранная гостиная, в которой повсюду виднелись цветы и книги, была вполне достойной рамкой для ее прекрасной обитательницы. Высокая, стройная, с удивительно правильными чертами снежно-белого лица, обрамленного густыми шелковистыми темно-русыми локонами с темно-синими мягкими глазами и крохотным пурпуровым ротиком, донна Гермоза, действительно, была так хороша, что даже еле живой Бельграно залюбовался на нее. Лет ей было около двадцати. Черное платье траурного покроя еще более оттеняло белизну ее лица, шеи и рук, которые теперь, впрочем, были запачканы кровью, на что она, однако, не обращала внимания, поддавшись свойственному каждой благородной женщине чувству жалости к ближнему.
Она только что перенесла алебастровую лампу со стола, за которым она перед тем читала, на стоявшую возле софы черную мраморную тумбочку, когда дон Мигель подошел к ней, поцеловал ей руку и сказал:
— Этот молодой человек, которого я больше никуда не мог привезти, кроме тебя, милая Гермоза, тот самый дон Луис Бельграно, мой лучший друг и названный брат, о котором я столько раз говорил тебе, добавляя, что мне очень хотелось бы познакомить тебя с ним. Судьба захотела, чтобы это знакомство произошло при таких грустных обстоятельствах. Ранен он в борьбе с людьми Розаса. Из этого ты можешь заключить, что необходимо не только заботиться о нем, как о человеке больном, но и укрывать его.
— Как же это сделать, Мигель? — произнесла донна Гермоза, растерянно глядя на распростертого на софе молодого человека, на мертвенно-бледном лице которого сверкали, как уголья, неестественно-широко открытые глаза.
— Предоставить мне в эту ночь распоряжаться в твоем доме, как я только захочу — вот и все, милая кузина. Завтра ты можешь опять вступать в права хозяйки и над своим домом и надо мной. Согласна ты на это?
— Конечно. Делай все, как находишь нужным, — ответила молодая женщина. — Я сама решительно не в состоянии придумать, где бы можно было у меня укрыть человека, так, чтобы об этом никто не знал.
— Кое-кому обязательно придется сказать... Ну, да об этом после. Пока же принеси, пожалуйста, стакан подслащенного вина… а, пожалуй, и два.
— Сейчас принесу, — сказала молодая женщина,уходя в соседнюю комнату.
Мигель приблизился к своему другу, который в тепле и покое начал дышать свободнее, хотя у него началась лихорадка, и сказал ему:
— Ты, конечно, уже догадался, что находишься в доме той самой прелестной вдовушки, моей кузины, о которойя тебе не раз говорил. Надеюсь, что ты не находишь мои восторженные отзывы о донне Гермозе преувеличенными? Ну, конечно, нет. Она только четыре месяца тому назад возвратилась из Тукумана, где похоронила мужа, и живет здесь в полном одиночестве...
— Ах, Боже мой! — перебил дон Луис. — В таком случае ты скверно сделал, что привез меня сюда. Ведь мое пребывание здесь может скомпрометировать твою кузину, раз она живет одна... К тому же не забывай, что у Розаса шпионов много, и они шныряют повсюду. Я уверен, что завтра же ему будет известно, где я нахожусь, и тогда твоей великодушной кузине может угрожать одинаковая со мной участь.
— Ну, об этом не беспокойся... Я приму меры. Чем сильнее опасность, тем я делаюсь находчивее и смелее. Если бы ты предупредил меня, что хочешь бежать, то, поверь, дело сложилось бы совершенно иначе, и у тебя не было бы ни одной царапинки. Когда я узнал об этом, было уже поздно.
— Откуда же ты узнал, что я хочу бежать, и в каком именно месте рассчитываю сесть на судно?
— Об этом поговорим после, — с улыбкой ответил дон Мигель.
В это время возвратилась донна Гермоза, неся в руках фарфоровый поднос с графином вина и двумя стаканами.
— О, прелестная кузина! — воскликнул дон Мигель. — Если бы греческие боги увидали тебя, они сейчас же дали бы своей Гебе отставку и пригласили бы тебя на ее место для разливания им амброзии... Выпей скорее, Луис, — обратился он к Бельграно, поднося ему налитый стакан. — Это немножко подкрепит тебя.
Он приподнял голову раненого и помог ему опорожнить стакан, между тем как молодая женщина продолжала стоять у стола, на который поставила поднос, и ожидала дальнейших распоряжений своего кузена.
Когда вино было выпито раненым и голова его опять упала на мягкие подушки софы, дон Мигель отнес стакан на стол и спросил донну Гермозу:
— А что, старый Хосе здесь?
— Здесь.
— Отлично. Разбуди его и вели ему прийти сюда.
Молодая женщина двинулась было к одной из дверей, но дон Мигель удержал ее за руку и сказал:
— Постой. Чтобы не терять напрасно времени, скажи мне сначала, где у тебя письменные принадлежности.
— Вот там, в кабинете.
— Хорошо, спасибо. Теперь разбуди, пожалуйста, Хосе.
Дон Мигель вышел в указанную ему комнату, взял там свечку, зажег ее и направился через спальню кузины в роскошно обставленную уборную, где принялся умываться в фарфоровом умывальнике.
— Ну, если бы Аврора увидала меня в таком виде, — бормотал он, взглянув на себя в зеркало, — то, наверное, подумала бы, что я выскочил прямо из ада, и скрылась бы от меня... в пампасах.
Переменив два раза воду, чтобы последовательно вымыть руки, лицо и шею, он вытерся тонким вышитым полотенцем и возвратился в кабинет, где сел за небольшой письменный столик и с серьезным видом, который вовсе не казался свойственным его свежему, миловидному лицу, принялся писать. Быстро набросав по нескольку строк на двух листках бумаги, он свернул их, запечатал, написал адреса и затем с готовыми записками вышел в гостиную. Там, перекинувшись двумя-тремя словами с доном Луисом и донной Гермозой, он выпил два стакана вина — за гибель Розаса и за выздоровление Бельграно.
Едва успел он осушить второй стакан, как из передней вошел высокий шестидесятилетний, но еще совершенно бодрый старик, в синем костюме и со шляпой в руках.
Увидав на софе покрытого кровью и грязью, очевидно, тяжело раненого незнакомца, он невольно отступил назад,,
— А я думал, Хосе, вы не боитесь крови! — с легким упреком сказал дон Мигель, подходя к старику. — Вы, кажется, должны были насмотреться на раненых... Это — мой друг. Он немножко поцарапан разбойниками... Сколько лет прослужили вы под начальством моего дяди, полковника Саэнса, отца донны Гермозы?
— Четырнадцать лет, сеньор, — почтительно ответил старик. — Я начал со сражения при Сальте и закончил баталией при Хунине, во время которой полковник умер на моих руках, сраженный вражеской пулей.
— Кого вы из своих генералов больше любили и уважали: Бельграно, Сан-Мартина или Боливара?
— Конечно, генерала Бельграно, сеньор, — не колеблясь, ответил старик.
— Хорошо... В донне Гермозе и во мне вы видите дочь и племянника вашего полковника, а этот вот молодой сеньор — сын генерала Бельграно, имеющий большую нужду в ваших услугах.
— Сеньор, я не могу ничего отдать более своей жизни, и она вполне к услугам тех, в чьих жилах течет кровь полковника Саэнса и генерала Бельграно! — с искренним чувством произнес Хосе.
— Верю, Хосе, — ответил дон Мигель. — Но нам нужна не только ваша храбрость, но и осторожность, а, главное, — ваше умение молчать.
— Я не обману вашего доверия, сеньор...
— Знаю, мой друг. Вы человек честный и горячий патриот...
— О, да, сеньор, я люблю свое отечество более всего в мире! — с гордостью подтвердил Хосе.
— Это-то я и ценю в вас... Однако время бежит... Вот что, Хосе: пройдите потихоньку в конюшню, не будя ни кого из прислуги, оседлайте одну из выездных лошадей, приведите ее к парадной двери и привяжите там. Потом возьмите оружие и вернитесь сюда.
Ветеран приложил руку к правому виску, точно находился перед генералом, сделал пол-оборота налево и пошел исполнить данное ему приказание.
Через несколько минут на улице послышался топот лошадиных копыт, который сейчас же прекратился; очевидно, Хосе привязывал лошадь к одному из столбов крыльца. Немного спустя старик вновь появился в дверях гостиной.
— Знаете вы, где дом доктора Парсеваля? — спросил его дон Мигель.
— За церковью Сан-Хуапа, сеньор.
— Верно. Поезжайте туда, разбудите доктора, отдайте ему эту записку и скажите, что пока он одевается, вам нужно заехать еще в одно место; попросите его подождать вас. Потом вы пройдете в мой дом и стукнете там три раза в дверь. Слуга мой, наверное, еще не спит, ожидая меня, и поэтому он сейчас же отопрет вам. Отдайте ему вот эту вторую записку. После этого отправляйтесь опять к доктору Парсевалю и привезите его сюда.
— Слушаю, сеньор.
— Все это постарайтесь сделать как можно скорее.
— Слушаю, сеньор.
— Вот еще что... Мало ли что может случиться дорогой, поэтому предупреждаю, что вы должны лучше дать себя убить, чем допустить, чтобы записка к доктору попала в чужие руки; тогда мы погибнем все: дон Луис Бельграно, донна Гермоза и я.
— Будьте покойны, сеньор...
— Верю вам, Хосе, верю!.. Ну, теперь отправляйтесь с Богом. Без четверти час, — продолжал дон Мигель, взглянув на мраморные часы, стоявшие на камине. — Если у вас не будет задержки в дороге, вы можете вернуться с доктором в половине второго.
Старый солдат снова отдал честь по-военному, повернулся и вышел черным ходом на улицу. Вскоре молодые люди услыхали лошадиный топот, который вскоре замер в отдалении.
Попросив кузину удалиться в кабинет, дон Мигель подсел к своему другу, откинул с его лба падавшие ему на глаза волосы и проговорил:
— Надеюсь, ты доволен моим выбором доктора, Луис?
— Да, если бы меня не тревожила мысль, что он тоже может быть скомпрометирован из-за меня, — ответил раненый. — Стоит ли моя жизнь того, чтобы ты ради нее подвергал опасности женщину, подобную твоей кузине, и такую выдающуюся личность, как доктор Парсеваль, наш дорогой учитель?
— Стоит, стоит, дорогой Луис, поверь мне! — с жаром воскликнул дон Мигель. — Кто же и достоин жертв, как не человек, который покрыт ранами и тем не менее все еще беспокоится о других?.. Но, успокойся: ни моя кузина, ни доктор Парсеваль не будут скомпрометированы. Я ничего не делаю опрометчиво и все отлично обдумал, прежде чем везти тебя сюда... А если бы им и пришлось пострадать, то они сочтут это только за честь, потому что этим они только засвидетельствуют свою принадлежность к числу честных людей, восстающих против зла. Наше общество в последнее время стало состоять только из убийц и их жертв; раз мы не хотим быть убийцами, то уже одним этим выказываем готовность сделаться жертвами.
— Все это так, но все-таки нисколько не утешает меня. Доктор Парсеваль пока еще ни в чем не был замечен, а приглашая его ко мне, ты навлекаешь на него подозрение.
— Но я не с крыши зову его сюда, не объявляю на весь город, что мол, смотрите, добрые люди, сейчас прибудет в этот дом, к «унитарию», дону Луису Бельграно, раненному наемными убийцами Розаса, доктор Парсеваль!.. Ах, дорогой Луис, кого же можно было пригласить, как не его? Ведь, в сущности, ты, я, все наши друзья, все наше поколение, побывавшее в здешнем университете, — все мы не что иное, как живые улики образа мыслей доктора Парсеваля. Мы — воплощение его идей, его произведение, помноженное на громадное число патриотизма, продукты его совести, его философических мыслей. С высоты своей кафедры он зажег в нашей душе любовь ко всему прекрасному и великому: к добру, к свободе, к справедливости! Наши друзья, которые сняли белые перчатки, чтобы взяться за шпагу, и соединились под знаменем Лаваля, — все они Парсевали. Фриас — доктор Парсеваль армий; Альберди, Гутьерес, Иригойен — доктора Парсевали печати. Сам ты, лежащий здесь, предо мной, весь в крови, рисковавший своей жизнью, чтобы бежать из угнетенного отечества, — тот же доктор Парсеваль, со всеми его чувствами и мыслями... Однако, что же это я болтаю! — перебил сам себя дон Мигель, увидав струившиеся из глаз раненого слезы. — Прости, пожалуйста, меня, я не буду больше затрагивать струн твоей души... Ради Бога, положись только на меня, и все будет хорошо... А в крайнем случае, если мы и попадем хотя бы к самому черту, то в аду нам, право, не будет хуже, чем в Буэнос-Айресе... Ну, будь умником, успокойся и лежи смирно. Я пока пойду поговорю с Гермозой.
Отерев другу слезы чистым батистовым платком, взятым с кресла, на котором сидела раньше хозяйка дома, и поцеловав горевшее лихорадочным румянцем лицо дона Луиса, он пошел в кабинет, смахивая на ходу с ресниц собственные слезы.
Впоследствии мы поближе познакомимся с этим превосходным молодым человеком, не уступавшим ни одному из мужчин в храбрости и ни одной женщине в нежности чувств.
Когда он вошел в кабинет, донна Гермоза сказала ему:
— Мигель, я положительно не знаю, что мне делать с тобой и твоим другом. Вам необходимо переменить платье. Твое все в крови и в грязи, а у дона Луиса, кроме того, оно все разорвано. Где мне достать для вас подходящие костюмы? Не могу же я предложить вам свои!
— Отчего же, милая кузиночка? — весело проговорил дон Мигель. — Посмотри, какая красавица выйдет из дона Луиса, если только сбрить ему усы и бородку!.. Нет, нет, я шучу! — поспешил он добавить, видя, что молодая женщина смотрит на него в недоумении. — Костюмы у нас будут, не беспокойся; я уже обдумал этот вопрос. Я пришел поговорить с тобой о более важном... Скажи, пожалуйста, кому из своих слуг ты больше всего доверяешь?
— Хусто Марии — эта служанка, вывезена мною из Тукумана, — и маленькой Лизе.
— Какие у тебя еще, кроме этих, слуги?
— Кучер, повар и два старых негра — сторожа.
— Кучер и повар — белые?
— Да.
— Хорошо. Итак, белых, потому что они белые, черных, потому, что черные — но, как только наступит утро, спровадь их всех подальше.
— Разве ты думаешь...
— Я ничего не думаю, а только сомневаюсь... Милая Гермоза, я знаю, что тебя должны любить все твои слуги, потому что ты добра, богата и справедлива, но при настоящих условиях, в которых находится наша страна, достаточно пустяка, чтобы слуга превратился в смертельного врага. Людям, желающим вредить, открыт путь доносов, и по одному слову какого-нибудь лакея, который сочтет себя оскорбленным, гибнут целые благородные семейства в когтях Mac-Горки. В Венеции во времена совета десяти и то было сноснее, чем сейчас у нас, в Буэнос-Айресе. Более всего можно нам полагаться на мулатов. Негры слишком много возомнили о себе, белые слуги почти все развращены, но мулаты, благодаря своему удивительному стремлению подняться посредством просвещения, почти все поголовно враги Розаса, так как они знают, что «унитарии» все люди просвещенные и поэтому вполне сочувствующие им...
— Хорошо, Мигель, я утром отошлю их всех от себя, — перебила молодая женщина, все время боровшаяся с собой, прежде чем прийти к этому решению.
— Да, милая Гермоза, это, к сожалению, необходимо, — произнес молодой человек, отлично понявший, что происходит в ее душе. — Этого требует безопасность дона Луиса, моя и даже твоя собственная... Надеюсь, ты не раскаиваешься в гостеприимстве, оказанном тобой несчастному...
— О, что ты, Мигель! Как можешь ты думать что-либо подобное!.. Мой дом и все мое состояние — к услугам твоим и твоих друзей.
— Благодарю. Злоупотреблять твоим великодушием мы не будем. Дон Луис не пробудет здесь ни минуты больше, чем потребует необходимость, — дня два или, в крайнем случае, три.
— Этого слишком мало, Мигель! — горячо проговорила донна Гермоза. — Он, очевидно, тяжело ранен и стаскивать его так скоро с постели — значит, убить его. Я свободна, живу совершенно изолированно, потому что по своему характеру люблю уединение; только изредка принимаю какую-нибудь из своих подруг или из приезжих родственников и еще реже выхожу сама... Я даже придумала, куда можно поместить дона Луиса, — в левый флигель дома. Туда никогда никто не заходит.
— Вот это отлично! — воскликнул молодой человек. — Может быть, там и для меня найдется местечко — хотя бы на эту ночь?
— Конечно, найдется, мой друг, — с улыбкой ответила донна Гермоза. — Пойдем, я тебе покажу это помещение.
ДОКТОР ПАРСЕВАЛЬ
Молодая женщина достала из ящика письменного стола ключ, взяла свечку и повела своего кузена через смежную комнатку, в которой спала крепким сном ее любимая горничная — подросток, — Лиза, во двор, к небольшому флигельку, состоявшему из галереи, где можно было прохаживаться в дурную погоду, и нескольких комнат.
Отперев наружный вход, донна Гермоза прошла галерею и вступила в прекрасно меблированную комнату.
— Вот, — сказала она, поставив свечку на стол,— помещение, которое я рекомендую тебе. Здесь недавно жил один родственник покойного мужа, приезжавший на несколько дней из Тукумана... Ты, кажется, еще ни разу не был здесь?
— Нет, я всегда думал, что здесь живет прислуга.
— При муже кое-кто из прислуги, когда ее было больше, действительно жили здесь, а теперь, когда я сократила свой штат, этот флигель у меня служит исключительно для гостей... Я недавно так была поражена неожиданностью, что совершенно забыла об этом флигеле... Вот смотри, здесь есть все, что может понадобиться для дона Луиса.
Она открыла комод и вынула оттуда чистое постельное и столовое белье и приготовила постель, между тем, как Мигель тщательно осматривал соседние комнаты — гостиную и столовую. Окна последней комнаты были прямо против окон гостиной главного здания, где в настоящую минуту лежал дон Луис.
— А куда выходят окна этой комнаты? — осведомился молодой человек, возвратившись в спальню.
— На галерею, через которую можно выйти с другой стороны прямо к воротам и к железной решетке, огораживающей дверь. Через эти ворота и вышел на улицу Хосе, не проходя домом.
— Это хорошо устроено... Однако, мне кажется, я слышу какой-то шум...
— Да... топот лошадей.
— Ага! Это, наверное, Хосе с доктором Парсевалем. Впрочем, убери-ка пока свет в ту комнату, — проговорил молодой человек, выбегая в галерею к окну, которое выходило как раз к воротам.
— Кто это? — с сильно бьющимся сердцем спросила донна Гермоза, тоже вышедшая в галерею из столовой, где оставила свечу.
— Они... доктор Парсеваль и Хосе, — ответил дон Мигель, прижавшись лицом к окну. — О, милый, неоцененный Парсеваль!.. Пойдем, Гермоза, встречать его.
Донна Гермоза побежала за свечкой, догнала кузена, который ощупью пробирался к выходу, сгорая от нетерпения поскорее повидаться с доктором Парсевалем.
Хосе догадался провести своего знаменитого спутника, профессора философии и доктора медицины Парсеваля, который тоже ехал верхом, прямо во двор, где его и встретили молодые люди.
— Благодарю вас,- тысячу раз благодарю, дорогой профессор, — говорил дон Мигель, пожимая руку Парсевалю, который, несмотря на свои пожилые годы, ловко спрыгнул с коня.
— Ведите меня скорее к Бельграно, мой друг, — сказал Парсеваль, не любивший благодарностей.
— Сейчас, — ответил дон Мигель, вводя ого задним ходом в кабинет донны Гермозы. — Все ли вы взяли с собой, что нужно для перевязки, как я просил вас? — продолжал он, указывая на ящик, который Парсеваль нес под мышкой.
— Думаю, что не забыл ничего, — ответил старик, вежливо ответив на приветствие донны Гермозы, которой он не видал на дворе, так как она раньше вошла в дом. — Если мне что-нибудь и понадобится, то разве только бинты.
— Полотна для них я могу дать вам, сколько угодно, — проговорила донна Гермоза, удаляясь в свою спальню.
— Дон Луис находится вот здесь, в гостиной, — объяснял дон Мигель доктору. — Само собой разумеется, что остаться здесь он не может, поэтому мы решили перенести его в левый флигель, на дворе, где есть вполне удобное помещение. Вы желаете осмотреть его сейчас же здесь или после перенесения его во флигель?
— Я должен освидетельствовать его немедленно, — решил доктор.
— Не нужен ли я вам еще? — спросил Хосе, появляясь из спальни. — Донна Гермоза прислала меня сюда. Лошадей я поставил в конюшню.
— Отлично, — сказал дон Мигель. — Пока пойдите назад к донне Гермозе и научите ее делать бинты. Вы должны это знать, потому что вам приходилось ухаживать за ранеными.
— Да, случалось, сеньор, — проговорил старик, уходя назад в спальню.
— Теперь, дорогой учитель, — продолжал дон Мигель дрогнувшим голосом, — я должен повторить вам то, что уже сообщил в своей записке: раны дона Луиса официальные, серьезные.
Он подчеркнул последнее слово.
— Это я и так понял бы, — произнес доктор. — Я знаю, что дон Луис не забияка и не будет понапрасну подвергать опасности ни чужую жизнь, ни свою собственную.
— Так пожалуйте сюда, — сказал молодой человек, движением руки приглашая доктора пройти в гостиную.
При легком шуме шагов по паркету, больной повернул голову и, увидев доктора, сделал было попытку приподняться.
— Лежите, Бельграно, лежите, — мягко проговорил Парсеваль. — Перед вами только доктор.
Он присел к раненому и пощупал у него пульс.
— Ничего, — сказал он, — дело не так плохо, как я думал. Его можно сначала перенести, а потом уж я приступлю к осмотру и перевязке, — обратился он к дону Мигелю.
В это время возвратилась донна Гермоза с бинтами в руках. За ней шел Хосе.
— Годятся, доктор? — спросила она, показывая бинты.
— Вполне, сеньора, — ответил Парсеваль. — Теперь я попрошу у вас таз с холодной водой и губку.
— Все это вы найдете в комнате, приготовленной для дона Луиса. Может быть, еще что-нибудь нужно?
— Нет, благодарю, сеньора, больше ничего.
Положив раненого в длинное кресло, доктор, дон Мигель и Хосе осторожно перенесли его во флигель. Донна Гермоза осталась одна в гостиной.
Бледная, взволнованная массой новых, внезапно нахлынувших на нее впечатлений, молодая женщина опустилась в кресло и сжала руками голову, в которой все перепуталось. Никогда еще за всю еежизнь ей не приходилось переживать столько разнообразных ощущений, как за последние полчаса, ией стоило не малых трудов разобраться в этом хаосе чувств, вызванных неожиданным появлением у нее в доме человека, одно простое знакомство с которым было опасно, не говоря уже об укрывательстве его у себя. До сих пор жизнь ее текла тихо и спокойно, а теперь вдруг, нежданно, негаданно, в ее дом ворвался смерч, способный все перевернуть вверх дном и вовлечь молодую женщину в политическую смуту!
Но оставим донну Гермозу одну с ее думами и волнениями и заглянем к раненому в его новое помещение.
Насквозь промоченная кровью одежда дона Луиса вся прилипла к телу, поэтому, чтобы снять, пришлось разрезать ее, смочив предварительно водой.
При осмотре двух ран доктор сказал:
— Опасного ничего нет. В боку оружие только проскользнуло по ребрам, не задев груди; на плече разрезаны одни мягкие части. Теперь посмотрим бедро.
При виде длинной и глубокой раны на бедре, глаза доктора затуманились облакомпечали, и губы его маленького рта крепко сжались. Внимательно осмотрев рассеченные внутри раны мускулы, он воскликнул:
— Боже, какой страшный удар! Он нанесен с необыкновенной силой, но тем не менее ничего не повреждено, кроме мускулов, а они могут срастись вновь; кровеносные сосуды все целы, а это самое главное.
Промыв раны, он наложил на них бинты, не употребив ни корпии, ни восковой мази, хотя у него в ящике было и то и другое.
В это время перед домом на улице снова послышался лошадиный топот. Дон Луис и его друг тревожно прислушались: один доктор оставался совершенно невозмутим.
— Вы мою записку передали прямо в руки моему слуге? — спросил дон Мигель ветерана, помогавшего доктору.
— Да, сеньор, — прямо в руки, — ответил тот.
— Ну, так это, наверное, он приехал. Пойдите, посмотрите. Если это он, приведите его сюда.
Хосе вышел и вскоре возвратился в сопровождения молодого человека лет 18—20, очевидно испанской крови, с умным и открытым лицом, блестящими черными глазами и румяными щеками.
— Все ли ты привез, Тонилло? — спросил его дон Мигель.
— Все, сеньор, что вы приказывали в своей записке, — ответил слуга, положив на стул громадный сверток.
Дон Мигель развернул сверток и достал из него прежде всего белье, которое с помощью доктора и надел на дона Луиса.
Затем он переоделся сам с головы до ног. Во время переодевания он давал подробные инструкции Хосе, как держать себя при таких исключительных обстоятельствах относительно остальных слуг дома, что им говорить, что делать и чего не делать. Между прочим он приказал ему тотчас же везде смыть кровь, вылить куда-нибудь поосторожнее окровавленную воду, сжечь одежду дона Луиса и свою собственную.
Тем временем дон Луис рассказывал доктору Парсевалю все происшедшее у реки. Старик, облокотившись на подушку, на которой лежала голова раненого, печально слушал рассказ об одном из тех кровавых эпизодов, которыми так богата стала жизнь в Буэнос-Айресе.
— Как вы думаете, Бельграно, знает этот Кордова ваше имя? — спросил доктор, когда молодой человек кончил свое грустное повествование.
— Не думаю. Кажется, товарищи не называли меня по имени в его присутствии... Нет, едва ли знает. Переговоры вел с ним один Пальмеро и не называл ему ни одного из нас.
— Если не знает, то это хорошо, — вмешался дон Мигель. — Надо будет, во что бы то ни стало, выяснить этот важный вопрос. Сегодня утром я постараюсь сделать это между прочим.
— Вам следует теперь быть очень осторожными, друзья мои, — заметил доктор. — Главное, не доверяйтесь здешней прислуге. Положение ваше очень опасно.
— Бог милостив! — произнес дон Мигель. — Он помог мне спасти жизнь моего друга в решительную минуту, когда рука злодея уже занесла было над ним нож. Надеюсь, поможет нам и дальше.
— Да, только на одного Бога и осталась надежда! — со вздохом проговорил доктор, переводя свой грустный взгляд с дона Луиса Бельграно на дона Мигеля дель Кампо.
Эти двое молодых людей были самыми любимыми из его последних учеников философии. Он видел, как в их сердцах всходила богатая жатва посеянных им добрых семян.
— Однако вам телерь следует заснуть, дорогой Бельграно, — обратился Парсеваль к раненому. — Около полудня приеду навестить вас.
Нежно проведя рукой по вспотевшему лбу молодого человека, он крепко пожал его горячую руку и вышел из комнаты в сопровождении дона Мигеля.
— Скажите мне правду, дорогой учитель, действительно ли раны Бельграно не опасны? — с беспокойством спросил дон Мигель, когда они оба очутились во дворе.
— Опасности нет ни малейшей, но полежать бедному Луису придется, — отвечал Парсеваль.
— Ну, с этим злом еще можно примириться, лишь бы была надежда на выздоровление, — проговорил обрадованный молодой человек, введя доктора опять в гостиную, где последний оставил свою шляпу.
Донна Гермоза все еще сидела на прежнем месте, устремив задумчивый взгляд в пустое пространство.
— Однако я еще не представил вас друг другу, — сказал дон Мигель. — Позвольте мне теперь сделать это. — Милая Гермоза, это сеньор Парсеваль, профессор философии, доктор медицины и хирургии, мой дорогой учитель, о котором ты, конечно, слышала не только от меня... Вам же, милый учитель, представляю мою кузину, донну Гермозу Саэпс де Салаберри.
— Я так и думал, что вы родственники, — заметил доктор, садясь по приглашению молодой женщины против нее в кресло: — при первом же взгляде заметно сильное фамильное сходство. Если я не ошибаюсь, то между вами должно существовать и большое сходство характеров. Я вижу, сеньора, что вы сейчас страдаете, потому что были свидетельницей чужих страданий, а эту прекрасную способность сочувствовать другим и забывать о самом себе я давно уже подметил в доне Мигеле.
Донна Гермоза покраснела, сама не зная от чего, и молча поклонилась, не зная, что ответить на похвалу старого ученого.
Что же касается дона Мигеля, то, пока доктор давал молодой женщине гигиенические наставления относительно ухода за раненым, молодой человек возвратился к своему другу и сказал ему:
— Милый Луис, мне необходимо побывать у себя дома, и я уезжаю с доктором. Около тебя останется Хосе, на которого ты смело можешь положиться, как на меня. Мне придется днем побывать во многих местах, поэтому я попаду сюда не раньше вечера, а до тех пор пришлю своего слугу узнать, как ты себя будешь чувствовать. Кстати, могу я распорядиться твоим слугой по своему усмотрению, если мне понадобятся его услуги, и сказать ему о тебе то, что я сочту нужным?
— Само собой разумеется, можешь, — ответил дон Луис. — Вообще я прошу тебя делать все, что найдешь нужным, только с тем условием, чтобы ты больше не впутывал никого в мое дело.
— Ты опять о том же, Луис?.. Не беспокойся, не впутаю кого не следует... Не желаешь ли дать мне какое-нибудь специальное поручение?
— Нет. А сказал ты своей кузине, чтобы она, наконец, прилегла отдохнуть после всех этих беспокойств?
— Эге! Начал уже тревожиться о моей кузине! Смотри, не вздумай еще влюбиться в нее!
— Будет тебе вздор городить, Мигель!.. Прощай же, пока... Береги себя, хоть ради меня.
— Будь покоен: в пасть волка не полезу... Итак до вечера!
— До вечера!
Друзья крепко обнялись и распрощались.
Выходя из комнаты, дон Мигель сделал Хосе и Тонилло знак следовать за собой.
— Тонилло, — сказал он, когда они вышли в галерею, — ступай приготовь наших лошадей... Мы поедем провожать доктора; а вас, Хосе, я попрошу не отходить от дона Луиса, делать все, что он прикажет, и, в случав надобности, защищать его, как вы защищали бы его отца.; Быть может, те, которые так отделали моего друга, принадлежат к Народному Обществу; тогда они, конечно, захотят отомстить за своих товарищей, которых он уложил, защищая себя, и употребят все силы, чтобы разыскать его убежище.
— Разыскать его они, конечно, могут, сеньор, — сказал старик, — но войти в него, пока жив старый Хосе, им не скоро удастся, а придется порядком повозиться, потому что он не хуже их владеет оружием.
— Браво! Я знал, что вы иначе не ответите, произнес дон Мигель, крепко пожимая старику руку. — Эх, если бы в моем распоряжении была хоть сотня таких людей как вы, тогда сразу прекратились бы страдания нашей родины!.. Однако, до свидания до вечера. Не забудьте запереть за нами ворота и двери.
— Не забуду, сеньор, будьте покойны, да хранит вас Бог!
Доктор уже прощался с донной Гермозой, когда дон Мигель возвратился в гостиную.
— Я еду провожать вас, доктор, — объявил молодой человек.
— Это будет совершенно напрасный труд, — возразил Парсеваль. — Я хорошо заметил дорогу и надеюсь найти ее один.
— Мне все равно нужно побывать дома, поэтому я и хочу воспользоваться случаем ехать в вашем обществе, — сказал молодой человек.
— А! Ну это дело другое. В таком случае я очень рад. Едем.
— Сию минуту, доктор... Милая Гермоза, — обратился дон Мигель к кузине. — Я приеду не раньше семи часов вечера, а днем пришлю Тонилло узнать о состоянии больного. Пока прощай. Покойной ночи. Не бойся ничего и не забудь утром отослать своих слуг.
— Если я и боюсь, то только за тебя и за твоего друга! — с живостью проговорила молодая женщина.
— Я знаю это, но могу уверить тебя, что все кончится благополучно.
— Сеньор, дон Мигель дель Кампо надеется на свои крупные связи, — с добродушной и ироничной улыбкой заметил Парсеваль.
— Еще бы! — воскликнул дон Мигель. — Не даром же я числюсь советником его превосходительства, сеньора министра дона Фелиппе, и членом-корреспондентом Народного Общества. Кроме того, я нахожусь под особым покровительством сеньоров Анхоренас!
Все это он проговорил с такой комичной важностью, что все невольно рассмеялись.
— Смейтесь, смейтесь! — продолжал он. — Однако, если бы не эти преимущества, которые мне служат лишь для того...
— Едем же, Мигель! — перебил доктор.
— Да, и то пора... До свидания, Гермоза!
Он поцеловал изящную руку молодой женщины и вышел вслед за доктором, простившимся с хозяйкой почтительным поклоном.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проводив Парсеваля, дон Мигель со своим слугой поскакал домой, где тотчас же вошел в свой кабинет-библиотеку. Комната была освещена громадной бронзовой лампой, стоявшей посредине на длинном и широком письменном столе.
Пора нам, однако, поближе познакомить читателя с этим молодым человеком, которому предстоит играть самую видную роль в нашем рассказе. Дону Мигелю было не более двадцати пяти лет от роду. Среднего роста, прекрасно сложенный, смуглый, темноволосый, с голубыми глазами, орлиным носом, пунцовыми губами и ровными, снежно-белыми зубами, он был очень хорош собой. Мужественные черты его благородного лица дышали умом и энергией. Судя по его балагурству с доном Луисом, можно было подумать, что это один из тех бесшабашных весельчаков, которым все нипочем, которые все делают только порывами и, прикрываясь подчас маской деловитости, ради хвастовства, берутся за великие дела, но окончить их не могут. В действительности же дон Мигель был не по летам серьезен и благоразумен и, как будет видно из последующего, но только не любил выставлять это на вид, а, напротив, находил нужным разыгрывать пустого, легкомысленного человека, чем и сбивал многих с толку. Балагурил же он с доном Луисом просто из нежелания показать ему, что находит его положение опасным.
Дон Мигель дель Кампо был единственным сыном дона Антонио дель Кампо, богатого землевладельца на юге, родственника знаменитых сеньоров Анхоренас, которые в свою очередь состояли в родстве с Розасом. Благодаря этому, а также своему громадному состоянию, они пользовались большим влиянием в федеральной партии своего отечества.
Дон Антонио дель Кампо был человек очень честный и прямой, горячо стоявший за федерацию и служивший ей сначала при Лопесе, затем при Даррего, а теперь при Розасе. Делал он это потому, что плохо понимал значение слова «федерация», чего, впрочем, не понимали и девять десятых всех федералистов, начиная с 1811 года, когда полковник Артигас первый произнес это слово, чтобы иметь повод возмутиться против правительства, и вплоть до 1829 года, когда этим словом воспользовался дон Хуан Мануэль Розас, возмутившийся против всего справедливого и честного.
Но еще более федерации, хотя он и посвящал ей все свои силы, дон Антонио любил своего единственного сына. Видя в нем, когда он был еще ребенком, замечательные способности, дон Антонио дал ему блестящее образование в надежде, что из него со временем выйдет профессор или, но крайней мере, доктор какой-нибудь науки.
В описываемое нами время дон Мигель был на втором курсе юридического факультета Буэнос-Айресского университета, но за несколько месяцев перед тем, по причинам, которые мы объясним после, он перестал посещать лекции.
Он жил совершенно один в доме, за исключением того времени, когда у него гостили лица, направленные к нему его отцом из провинции, как, например, в описываемый нами день.
Войдя в свой кабинет, дон Мигель опустился в вольтеровское кресло перед письменным столом, взял перо, пододвинул к себе портфель с бумагой, достал несколько чистых листов и принялся писать, но потом вдруг отбросил перо, облокотился на стол, подпер голову руками и замер.
Через несколько минут глубокого раздумья он встрепенулся и воскликнув: «Нашел, этим средством я всем отведу глаза!»— он снова взял в руки перо и написал одно за другим следующие письма.
«5-го мая, 2 с половиной часа утра.
Милая Аврора!
Ты всегда уверяешь, что обязана мне своим умственным развитием. Если это правда, то ты, конечно, не откажешься доказать мне свои успехи, исполнив маленькое поручение, которое я дам тебе. Надеюсь, что ты увидишь в моей просьбе ясное доказательство моего полного доверия к тебе.
Узнай, пожалуйста, что говорят в кружке донны Августины Розас и донны Марии Жозефы Эскурра о происшествии, случившемся нынешней ночью около бухты Резиденции, как оно истолковывается, кого называют участниками в нем; вообще разузнай все, что касается этого дела.
Будь поосторожнее, в особенности с донной Марией Жозефой; старайся не показывать виду, что ты интересуешься этим делом, наведи на него разговор как бы мимоходом. Хорошо, если бы тебе удалось сделать так, чтобы она заговорила о нем сама.
Ты, разумеется, понимаешь, моя дорогая, что мне нужно знать это вовсе не из пустого любопытства, и не распространишь свои милые капризы, которыми иногда сводишь меня с ума, на серьезное дело, от которого зависит, быть может, вся моя будущность. Целую твои прелестные ручки бессчетное количество раз.
На веки твой Мигель».
— Бедняжка! — пробормотал молодой человек, перечитав это письмо. — Волей-неволей приходится втягивать и ее в политическую смуту... Впрочем, она так умна и ловка, что не навлечет на себя и тени подозрения. Легче проникнуть в тайны луны, чем в мысли Авроры, когда она захочет скрыть их; поэтому бояться за нее нечего... Ну, теперь примемся за второе письмо... В нем нужно будет прежде всего подвинуть часы вперед.
Быстро написав второе письмо, он перечитал его про себя. Оно было следующего содержания:
«5 мая 1840 г., 9 час. утра.
Сеньору дону Фелиппе Арано.
Высокоуважаемый сеньор и друг!
Пока вы неустанно бодрствуете и со свойственной вам энергией побеждаете все опасности, окружающее правительство, некоторые из подчиненных вам представителей власти, из духа, оппозиции и жажды интриг, пользуются своим положением только для того, чтобы подкапываться под правительство, совершенно игнорируя свои прямые обязанности.
Так, например, полиция больше старается выказывать свою независимость от вашего авторитета, чем делать то, для чего она специально назначена.
Вам известно, что на прошлой неделе свыше сорока человек эмигрировали из города под носом у полиции, не встретив ни малейшего сопротивления с ее стороны, хотя она обладает достаточными средствами для того, чтобы задержать и гораздо большее число людей, когда только захочет. Факт этот своевременно был мной сообщен вам, а вами доложен его превосходительству сеньору реставрадору; сеньор же Викторика нашел нужным делать вид, что ему ничего неизвестно. Вы знаете, что он очень не любит, когда его превосходительство узнает что-нибудь через вас.
Вот, например, сегодня ночью, в двенадцатом часу, я проходил мимо дома сэра Вальтера Спринга и заметил возле бухты большую толпу пеших людей, окруженную конными. Насколько я мог понятьв отдалении, пешие пытались эмигрировать на каком-то судне. Близко я не подходил, не желая быть узнанным кем-нибудь, поэтому и не знаю, чем окончилась вся эта история.
Я убежден, что если вы об этом происшествии наведете справки в полиции для доклада его превосходительству, то ничего важного не узнаете, поэтому я осмеливаюсь посоветовать вам произвести разведку частным путем. В целях охраны интересов правительства, важно в точности знать число и имена лиц, хотевших эмигрировать, а это может быть сделано только помимо полиции.
Я буду у вас сегодня после обеда; до тех же пор вы, вероятно, успеете собрать все нужные сведения, и мы тогда вместе обсудим доклад сеньору реставрадору.
С глубоким уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугой.
Мигель дель Кампо».
— Захочет отличиться, непременно все разузнает сам, — пробормотал молодой человек, перечитав это письмо. — Ему ведь в голову не придет, что это мне на руку!., О, я их всех заставлю плясать под мою дудку...
Отложив это письмо в сторону, он написал третье:
«5 мая 1840 г.
Сеньору полковнику Саломону.
Высокоуважаемый сеньор!
Всем известно, что вы представляете собой краеугольный камень федерации и что наш великий реставрадор не имеет друга, более верного и самоотверженного, чем вы, поэтому мне больно слышать во всех посещаемых мной и хорошо известных вам домах, что народное собрание, достойный председатель которого вы, не оказывает полиции должного содействия в борьбе с унитариями, которые каждую ночь целыми толпами эмигрируют в армию Лаваля.
Если слух об этом дойдет до реставрадора помимо вас, то он, конечно, будет весьма огорчен этим; вот почему я в качестве вашего искреннего друга, горячо принимающего к сердцу ваши интересы, позволю себе посоветовать вам сегодня же собрать у себя надежнейших членов федерации, приказать дать вам подробный отчет обо всем, что им известно о последних беглецах, и обсудить вместе с ними, какие следует принять меры к пресечению дальнейшей эмиграции.
Я буду иметь честь присутствовать на этом собрании и, как делал уже много раз раньше, помогу вам возбудить патриотизм и энергию избранных защитников реставрадора. Хотя вы — я это прекрасно знаю — и одни могли бы воспламенить вашим поразительным красноречием целую армию, в особенности, когда дело идет о благе федерации и о драгоценной жизни нашего славного реставрадора, но ведь люди так любят слышать подтверждение от других того, что говорит один!
Соблаговолите сообщить мне час вашего собрания.
С глубочайшим уважением остаюсь вашим покорнейшим слугой.
Мигель дель Кампо».
— Ну, этот тоже в моих руках, — с улыбкой подумал молодой человек, складывая письмо. — Эх, если бы у меня было еще хотя бы два таких помощника, как я сам, то все эти доны Фелиппе и полковники Саломоны мигом разорвали бы в клочки Розаса!.. Впрочем, если мне хорошенько напрячь свои силы, то я, быть может, и один сумею спасти отечество... Однако остается написать еще одно письмо и при том самое важное.
Открыв потайной ящичек в своем письменном столе, он достал оттуда лист бумаги, покрытый условными знаками, и, поминутно справляясь с ним, набросал на зеленом листке бумаги следующие строки:
«Буэнос-Айрес, 5 мая 1840 г.
Сегодня ночью пятеро из наших друзей были захвачены в тот момент, когда они собирались бежать. Салазар, Пальмеро, Сандеваль и Маркес убиты; по крайней мере я имею твердое основание считать их убитыми. Только одному из них удалось спастись каким-то чудом. Если вам придется говорить с кем-нибудь об этом деле, то не называйте никого, кроме упомянутых мной лиц».
Свернув эту записку особенным способом, дон Мигель тщательно запечатал ее и надписал на ней следующий адрес:
«3. 53-го. Монтевидео».
Затем он вложил ее в конверт с другим адресом. Положив этот конверт под бронзовую чернильницу, он дернул шнурок звонка.
Вошел Тонилло.
— Знаешь, что, Тонилло, — начал дон Мигель с озабоченным видом,—ведь дело пошло вовсе не так, как я желал и рассчитывал. Рекрутский набор производится ныне с особенной строгостью; генерал Пинедо и слышать не хочет о том, чтобы дать тебе льготу. Если ты в самом деле не желаешь служить, то мне придется вторично похлопотать о тебе и пустить в ход особенные пружины, чтобы выручить тебя.
— Помогите, ради Бога, сеньор! Я вам за это весь век буду благодарен, — проговорил Тонилло со слезами на глазах. — Мне очень не хочется оставлять такого доброго господина, как вы, и идти в солдаты! Я вырос в деревне, и там не любят солдатчины...
— Да теперь и служба будет очень тяжелая. Мне самому так хотелось бы избавить тебя от опасности быть убитым через несколько дней после вступления в армию. Я слышал, что собираются воевать. Ведь ты родился в имении моего отца, вырос у нас в доме, и я привязался к тебе, как к человеку близкому... Кажется, я тебя никогда и словом не обидел... вообще тебе было хорошо у нас.
— О, сеньор! — воскликнул Тонилло дрожащим голосом, — да у вас все равно что в раю!
— Это приятно слышать, Тонилло. Да оно и действительно, чем тебе не житье: в знак полного доверия я сделал тебя своим камердинером, поставил над всеми остальными слугами, поручил тебе заведовать всем домом и позволяю распоряжаться деньгами, которые я выдаю на хозяйство, никогда не спрашивая у тебя отчета. Разве все это не правда, Тонилло?
— Истинная правда, сеньор!
— Когда я нуждаюсь в лошадях, то всегда прошу отца выслать, кстати, и для тебя одну. Вообще все слуги и Буэнос-Айресе завидуют тебе, и они правы. Поэтому не мудрено, что тебе не хочется в солдаты.
— Да, сеньор. Если уж нужно непременно убить меня, то пусть лучше убьют тут, в вашем доме, чем тащить меня Бог весть куда.
— А за меня дал бы ты убить себя, если бы на то пошло? Представь себе, что я вдруг очутился бы в величайшей опасности, и только ты мог бы спасти меня...
— О, сеньор! — укоризненно проговорил молодой человек, — неужели вы можете сомневаться в этом? Само собой разумеется, что я дам изрезать себя на куски за вас! Для кого же я и живу на свете, как не для своего дорогого сеньора?
Дон Мигель пристальнее вгляделся в открытое лицо слуги, и увидев там полную искренность истинного сына пампасов, еще не испорченного городской жизнью.
— Я так и думал, — проговорил, наконец он. — А если я ошибся в тебе, если не сумел верно прочесть, что написано в твоем сердце, то мне нечего надеяться на успех в своих делах.
Проговорив последнюю фразу как бы про себя, дон Мигель взял три письма и продолжал:
— Ну, хорошо, Тонилло, я постараюсь отстоять тебя от военной службы и, наверное, отстою, потому что теперь не пожалею ничего для этого... Пока же вот тебе поручение: в девять часов утра снеси донне Авроре букет цветов. Скажи у нее в доме, что тебе приказано передать его лично, и когда она выйдет, передай ей вместе с цветами это письмо, но только так, чтобы при этом никого не было. Потом ты отправишься к дону Фелиппе Арана и отдашь ему вот это письмо, а от него пройдешь к полковнику Саломону и вручишь тоже письмо. Смотри, не перепутай письма и отдавай каждому, какое следует, а то наделаешь мне большие неприятности.
— Будьте покойны, сеньор, не ошибусь.
— Погоди, вот еще что...
— Что прикажете, сеньор?
— Когда отдашь письмо полковнику Саломону, пройди к донне Марселине...
— К той, которую...
— Да, да, именно к той самой, которую ты на днях не впустил ко мне, и ты был прав, поступив так. А сегодня скажи ей, что я прошу ее пожаловать ко мне немедленно.
— Хорошо, сеньор.
— Думаю, что ты возвратишься в десять часов. Если я в это время буду еще спать, ты разбудишь меня.
— Слушаю, сеньор.
— Перед уходом скажи кому-нибудь из своих товарищей, чтобы разбудили меня сейчас же, если кто спросит меня раньше твоего возвращения.
— Все будет исполнено, сеньор.
— Еще одно, и тогда можешь пойти спать... Но может быть, ты сам догадываешься, что я хочу сказать?
— Догадываюсь, сеньор, — ответил слуга, глядя своими умными глазами прямо в глаза дону Мигелю.
— Очень рад этому, Тонилло, и я желал бы, чтобы ты всегда помнил, что для сохранения моего доверия тебе следует быть немым как рыба, хладнокровным как лягушка и мудрым как змея. Если ты проболтаешься, или…
— Этого никогда не будет, сеньор.
— Хорошо, будем надеяться... Теперь ступай.
Было три часа утра, когда дон Мигель, запершись в своей спальне, предался наконец отдыху.
ЛОГОВО ТИГРА
В то время, когда на берегу Рио-Платы происходила резня, описанная нами в первой главе, в одном из домов на улице Реставрадора совершались еще более важные события.
Для того, чтобы читателям был вполне понятен наш рассказ, необходимо развернуть перед ним картину политического положения Аргентинской республики в тот момент, с которого начинается наше повествование.
Это была эпоха кризиса для диктатуры Розаса, которому предстояло или пасть, или же набрать еще большую силу и укрепиться на достигнутой им вершине могущества.
Кризис был вызван тремя причинами: гражданской междоусобицей, восточной войной и французским вопросом.
Вспыхнувшее в декабре 1839 года на юге восстание угрожало Розасу такой опасностью, какой он еще ни разу не подвергался в течение всей своей политической карьеры. Но неудачный конец этого восстания, плохо задуманного и еще хуже направленного, имел в результате лишь то, что Розас, этот баловень судьбы, обязанный своими успехами, главным образом, глупости своих противников, сделался смелее и деспотичнее прежнего, потому что остался победителем над всеми восставшими против него.
Однако вскоре два страшных удара сильно потрясли здание его могущества: поражение его войск на востоке и экспедиция генерала Лаваля в провинции Энтре-Риос.
Победа при Херуа дала генералу Лавалю возможность вызвать революционное движение в Корриептесе, который 6 октября 1839 года восстал и поднял знамя возмущения против деспотизма Розаса.
Между тем побежденные при Каганче войска диктатора укрылись в провинции Эптре-Риос, в окрестностях; Параны, и вместе с поспешно высланным Розасом подкреплением образовали новую сильную армию, в которой; находился бывший президент дон Мануэль Орибе.
Генерал Лаваль оставил провинцию Корриентес и со своей, сильно увеличенной, прекрасно дисциплинированной и полной энтузиазма армией, 10 апреля 1840 года разбил наголову дона Кристобаля. Последствием этой победы было распространение революционного движения па Тукумане, Сальто, Риоху, Катамарку и другие провинции.
Еще за три дня до этого, т. е. 7 апреля, собрание тукуманских представителей постановило не признавать; более диктатора Хуана Мануэля Розаса губернатором Буэнос-Айреса и отобрать у него данное ему прежде полномочие на право сношений с иностранными государствами.
13 апреля то же самое повторилось в Сальте, а в следующие дни восстали против власти Розаса и прочие поименованные провинции. Словом, из четырнадцати провинций, входивших в состав Аргентинской республики, ровно половина объявила себя против Розаса.
Провинция же Буэнос-Айрес представляла совершенно особенный вид.
Южная часть ее опустела, благодаря многочисленным эмиграциям, вызванным вспыхнувшей революцией и последовавшей затем кровавой расплатой за нее, а север был переполнен недовольными.
Розас знал все это, но долго не принимал никаких мер, выжидая, чтобы смутное положение определилось яснее, хотя скрытый мятеж мог вспыхнуть каждый день, если бы явились энергичные вожди; но их-то пока и не было.
Когда же Розас увидел себя стесненным со всех сторон и понял, что силы его слабеют, он решился и начал действовать.
Чтобы восстановить в мятежных провинциях свою утраченную власть, Розас послал туда генерала Ла-Мадрида. Последний, не надеясь на один свой личный авторитет, остановился в Кордове с целью набрать там хоть небольшой отряд.
Желая помочь Орибе Эшапо, находившимся в провинции Энтре-Риос, диктатор подверг провинцию Буэнос-Айрес тяжелому испытанию, приказав произвести набор в армию всех способных носить оружие граждан, не разбирая ни лет, ни положения, ни рода занятий. Гражданам, впрочем, предоставлялось на выбор: или идти в солдаты, или уплатить за себя известную сумму, причем тех, которые не могли внести этой суммы сразу, держали в тюрьме или в казармах до полной ее выплаты.
Эта жестокая мера в соединении с чувством патриотизма, возбужденного в молодежи слухами о победах армии освобождения, вызвала эпидемию эмиграции в самом Буэнос-Айресе, задававшую, как мы видели, такую большую работу кинжалам Мас-Горки.
Для противодействия Лавалю выигравшему уже два сражения, Розас, в сущности, мог рассчитывать только на остатки своей армии, находившейся в провинции Энтре-Риос, и на энергию генерала Ла-Мадрида, которому предстоял нелегкий труд пополнить армию новобранцами.
В провинции же Буэнос-Айрес Розасу не на кого было надеяться, кроме своего брата Пруденсио, Гранада, Гонсалеса и Рамиреса, имевших под рукой несколько неполных, плохо дисциплинированных дивизий.
Для удержания же в страхе самого города Буэнос-Айреса у него в распоряжении имелась лишь Мас-Горка.
В конце апреля для Розаса внезапно явилась новая опасность: генерал Ривера, сильно возгордившийся победой при Каганче, стал прогуливаться со своей армией из конца в конец республики, хотя и не соединялся еще с Лавалем. Может быть, какие-нибудь личные причины мешали этим двум генералам соединиться вместе и нанести решительный удар диктатору республики; трудно найти другое объяснение этого странного факта, что оба победителя не действовали совместно.
Как бы то ни было, но Розасу приходилось очень туго. Если генерал Ривера пока еще бездействовал, то каждую минуту можно было ожидать, что он вновь покажет себя, тем более, что весь восток, где сейчас находился Ривера, готов был подняться на помощь.
Кроме всего этого, перед диктатором, как грозный призрак, стояла Франция.
Избранный в президенты восточной части республики генерал Ривера заключил союз с французскими властями в Ла-Плате против Розаса. Впрочем, этим союзом до известной степени была задета национальная гордость аргентинских эмигрантов и, некоторые из них, наиболее умеренные, находили, что долг повелевает им оставаться нейтральными в международном вопросе, касавшемся их правительства, каково бы оно ни было. Но таких было немного; большинство же было против этого правительства. Нашлись даже такие, которые стали громко кричать о наглости иностранцев, собирающихся ловить рыбу в мутной воде в приютившей их стране.
Однако всенародно повторенные заявления французского правительства и французских агентов в Ла-Плате, в конце концов, убедили эмигрантов, что французы вовсе не имеют намерения оскорблять достоинства Аргентинской республики или задевать ее интересы; они хотят только заставить чересчур разошедшегося деспота уважать общечеловеческие права, признанные всем миром. Кончилось это недоразумение тем, что сначала между эмигрантами и французами завязалась дружба, а потом образовался крепкий союз против Розаса, чего он, будучи в сущности очень плохим политиком, не предвидел и представить себе не мог.
К сожалению, во французской колонии Ла-Платы вскоре произошли некоторые перемены, не совсем благоприятные для противников диктатора Аргентинской республики: на место Рожэ назначен был Бюшэ де Мартиньи, а на место контр-адмирала Леблана — контр-адмирал Дюпотэ.
По распоряжению последнего блокада побережья Рио-Платы в провинции Буэнос-Айрес была тотчас же снята и заблокированным остался лишь проход в океан. Это неожиданное распоряжение нанесло сильный удар борцам за свободу Аргентины.
Посредничество некоторых иностранных держав между недовольными и Розасом не привело ни к чему. Так, например, посредничество американского представителя Никольсена в апреле 1839 года и свидание, состоявшееся в феврале 1840 года на борту английского корабля «Актеон» между представителем Англии, сэром Вальтером Пирингом, уполномоченным Розаса, доном Фелиппе Арапа, и представителем Франции контр-адмиралом Дюпотэ, не принесли ничего существенного.
Бюшэ де Мартиньи тоже было поручено войти в дипломатические переговоры с Розасом.
Но, выслушав невозможные предложения жестокого диктатора Аргентинской республики, Бюшэ с негодованием отверг их. Только один этот честный и энергичный человек умел одновременно защищать права и интересы своей страны, на которые другие его соотечественники так мало обращали внимания, и вместе с тем поддержать и оживить дело восстания против Розаса.
Хотя сэр Вальтер Спринг и не прерывал сношений с французами, он в это же время был дружен и с Розасом. Последнее объяснялось тем, что он в душе вполне сочувствовал жестокому диктатору и тайно интриговал против французов. Однако Англия не могла не признать прав Франции на блокаду Ла-Платы, несмотря на то, что английская торговля сильно страдала от этой морской заставы, преграждавшей путь к одному из богатейших рынков Южной Америки.
Таково было положение дел республики и самого Розаса. Последнему угрожала окончательная гибель, от которой его могло спасти только чудо.
После этого краткого обзора мы попросим читателя последовать за нами в один из домов улицы Реставрадора в Буэнос-Айресе.
В темных сенях этого дома 4 мая, около полуночи, т. е. именно в то время, когда на набережной резали спутников Бельграно и травили его самого прямо на полу, завернувшись в пончо, лежали два гаучоса и восемь индейцев из Пампы; все они были вооружены терцеролями (короткими карабинами) и саблями.
В конце длинного коридора, примыкавшего к сеням, виднелась узкая полоска света из немного приотворенной двери комнаты, в которой горела на столе толстая сальная свеча. Вокруг стола стояло несколько простых плетеных стульев; на трех из этих стульев, небрежно развалившись, сидели трое мужчин с длинными усами, в накинутых на плечи пончо и с саблями у пояса.
Грубые, отталкивающие лица этих людей носили тот своеобразный отпечаток, который свойственен агентам тайной полиции низшего разбора, т. е. ловцам сбежавших каторжников или кандидатов на каторгу.
Направо от этой комнаты шел узкий проход с тремя дверями: одной направо, другой налево, а третьей в глубине.
Дверь налево вела в комнату, не имевшую других сообщений с остальным домом. В ней сидел человек, одетый в черное и, очевидно, погруженный в глубокие размышления.
Дверь в глубине вела в небольшую мрачную кухню, а та, которая была направо, — в крохотную переднюю; за передней следовала довольно большая зала. К этой зале, выходившей двумя окнами на улицу, с левой стороны примыкала спальня, сообщавшаяся с несколькими другими комнатами, в одной из которых, освещенной, как и остальные помещения, сальными свечами, спала на постели одетая женщина.
В зале за четырехугольным столом, покрытым красной шерстяной скатертью, сидели в кожаных креслах четверо мужчин.
Первый из них был человек лет сорока восьми, высокий и плотный. Мясистые, красные щеки, сжатые губы, высокий, но узкий лоб, маленькие глаза под тяжелыми веками и щетинистыми, сдвинутыми бровями, — все это представляло очень непривлекательное целое. Субъект этот был одет в широкие черные суконные панталоны и в вишневого цвета камзол; шею его обвивал черный шелковый галстук, а на голове красовалась соломенная шляпа с такими широкими полями, что они могли закрыть половину лица, если бы не были в эту минуту загнуты на самый лоб.
Остальные трое были молодые люди от двадцати пяти до тридцати лет, причем двое из них обращали на себя внимание бледностью и утомленностью лица; все они поспешно писали.
Человек в шляпе просматривал лежавшую перед ним груду писем.
В одном из углов залы сидел маленький сутуловатый старичок лет семидесяти слишком, с изможденным желтым лицом, на которое в беспорядке падали пряди длинных белых волос. Костлявая фигура старика была облачена в старый красный военный мундир с растрепанными потертыми эполетами, из которых одна съехала на грудь, а другая — на спину. Красный шелковый, до невозможности заношенный и засаленный пояс придерживал на боку крошечную шпаженку, походившую более на детскую игрушку, нежели на оружие. Обтрепанные внизу панталоны, давно потерявшие всякий цвет, и сапоги, сплошь покрытые грязью, довершали костюм этого человека, который только тем и проявлял свое существование, что то и дело клевал носом, борясь с одолевавшей его дремотой.
В противоположном от него углу, свернувшись в клубок, прямо на полу, спал мулат в монашеской рясе. По временам он сладко всхрапывал. Этим только и нарушалась царившая в комнате мертвая тишина.
Наконец один из писавших поднял голову и воткнул перо в чернильницу.
— Кончили? — спросил человек в шляпе.
— Кончил, ваше превосходительство, — почтительно отвечал молодой человек.
— Прочтите, что вы написали.
— Извольте слушать ваше превосходительство. «В провинции Тукуман: Марко Авелланеда, Хосе Торрибио дель Корро, Пьедрабуэна, Хосе Коламбрес. В провинции Салта: Торрибио Тедин, Хуан Франциско Вальдес, Бериабэ Лопес, Сола».
— Разве нет больше?
— Нет, ваше превосходительство. Это имена всех тех гнусных унитариев, которые седьмого и десятого апреля подписали в Тукумане известные документы, а также тех, которые подписались тринадцатого того же месяца в Сальте под этими документами.
— То есть те документы, в которых они отказываются признавать меня губернатором Буэнос-Айреса и которыми отнимают у меня мои права на внешние сношения, — со злой улыбкой пояснил самому себе человек в шляпе, величаемый превосходительством.
Это был генерал дон Хуан Мануэль Розас, диктатор Аргентинской республики.
— Прочтите мне извлечение из сегодняшних сообщений, — приказал он минуту спустя.
Секретарь начал читать следующую, составленную им, выписку:
— «Из Риохи от пятнадцатого апреля сообщают, что изменники Брисуэла — так называемый губернатор, — и Франциско Эрсильбенгоа — так называемый секретарь, — в сообществе с Хуаном Антонио Кармона и Лоренсо Антонио Бланко — так называемыми президентом и секретарем собрания, — готовятся издать постановление о непризнании губернатором Буэнос-Айреса и уполномоченным на внешние сношения великого реставрадора законов, превосходительнейшего бригадира дона Хуана Мануэля де Розаса; подстрекателем к этому злостному деянию является гнусный унитарий Марко Авелланеда, так называемый председатель Северной Лиги...»
— Брисуэла! Эрсильбенгоа! Кармона! Бланко! — повторил Розас, неподвижно устремив сверкающие глаза на красную скатерть, как бы желая раскаленным железом выжечь в своей памяти эти имена. — Продолжайте! — резко крикнул он после непродолжительной паузы.
— «Из Катамарки, от шестнадцатого апреля, сообщают, — продолжал секретарь, — что гнусный унитарий Антонио Дульсе — так называемый председатель собрания — и Хосе Кубас — так называемый губернатор — готовятся издать постановление о признании изменником отечества великого реставрадора законов, губернатора и генерал-капитана провинции Буэнос-Айрес, превосходительнейшего бригадира дона Хуана Мануэля де Розаса...»
— Я им покажу такие дульсы, которые им покажутся очень горькими! — воскликнул Розас, судорожно сжимая пальцы правой руки и раздувая ноздри, как дикий зверь. — Ну-ка, — обратился он к другому секретарю, — покажите мне акт Жужуя от тринадцатого апреля... Так!.. Теперь прочтите мне имена лиц, подписавших этот акт.
Второй секретарь прочел несколько десятков из наиболее благородных и славных в стране имен, между тем как Розас сам записывал эти имена на документе, который держал в руке.
— Хорошо, — продолжал он, отдавая секретарю этот документ обратно. — А под какой рубрикой запишете вы это в книгу?
— Под рубрикой: «Сообщения из провинций, подпавших под власть унитариев», ваше превосходительство, как вы приказывали.
— Я так никогда не приказывал!.. Повторите заглавие рубрики.
— «Сообщения из провинций, подпавших под власть изменников-унитариев», — повторил молодой человек, бледнея до синевы.
— Повторяю, я так не приказывал... Повторите еще раз.
— Но, ваше превосходительство...
— Что «ваше превосходительство?» — передразнил Розас. — Повторите еще раз как следует, да погромче, чтобы все слышали и запомнили.
— «Сообщения из провинций, подпавших под власть гнусных изменников-унитариев», — неестественно звенящим, нервно-возбужденным голосом произнес секретарь, притом так громко, что окончательно было заснувший старый воин вздрогнул, поднял свою трясущуюся голову и в недоумении вытаращил глаза.
— Ну, теперь так, — сказал Розас. — Не забудьте, что я раз и навсегда приказал называть их гнусными изменниками-унитариями... Впрочем, достаточно называть их просто гнусными унитариями, а что они изменники — понятно само собой... Гнусные унитарии, слышите?
— Слышу, ваше превосходительство.
— Читайте письмо Корвалана.
Секретарь, поклонившись, начал:
«Да здравствует Аргентинская республика!
Да погибнут гнусные унитарии!
Буэнос-Айрес, 4-го месяца Америки 1840 г., 31-го года свободы, 24 — независимости и 11-го Аргентинской конфедерации.
Адъютант его превосходительства командиру 2-го, полковнику дону Антонио Рамиресу.
Я, нижеподписавшийся, получил приказ от его превосходительства губернатора провинции, великого реставрадора законов, бригадира дона Хуана Мануэля де Розаса, которым мне предписывается сообщить вашему высокородию, что его превосходительство находит нужным, чтобы ваше высокородие при составлении отчетов о числе войск, находящихся под вашей командой,всегда показывали это число вдвойне, добавляя, что половина войска линейного, и что все оно проникнуто федеративным духом.
«Да сохранит Господь ваше высокородие на многое множество лет!»
— Отлично! — произнес Розас, взяв это письмо из рук секретаря. — Эй, — крикнул он через плечо, — Корвалан! Сюда!
Старик-воин вскочил, точно под влиянием электрического тока, и подошел к столу, причем шпага очутилась у него сзади, а эполеты так и подплясывали на его груди и на спине.
— Опять спал, старый соня? А? — продолжал Розас.
— Виноват, ваше превосходительство...
— Хорошо, хорошо!.. Подписывай.
Старик взял поданное ему диктатором перо и дрожащей рукой подписал под письмом:
«Мануэль Корвалан».
— Ты мог бы выучиться и получше писать, когда был в Мендосе, — заметил Розас, смеясь над неуклюжими буквами, с трудом выведенными стариком.
Последний ничего не ответил на это замечание, и стоял молча и неподвижно как статуя.
— Скажите мне, пожалуйста, генерал Корвалан, — все еще с улыбкой продолжал Розас, — что ответил вам Симон Перейра?
— Что солдатское сукно подорожало на тридцать процентов против прежней цены, — отвечал старик каким-то, точно деревянным, голосом.
— Да? — произнес диктатор, поворачиваясь вместе с креслом к Корвалану. — Завтра утром сходи к нему и передай при всех присутствующих от моего имени то, что знаешь, чаще добавляя, что это именно я ему посылаю, понял?
— Как не понять, понял, ваше превосходительство!
— Ну, а что ты скажешь ему?
— Его превосходительство губернатор посылает вам вот это, — три раза повторил старик, причем каждый раз с невозмутимой серьезностью ударял открытой ладонью правой руки по своей левой руке повыше локтя.
Розас громко расхохотался, секретари угодливо улыбнулись, но лицо старика сохраняло свою прежнюю неподвижность.
— Скажи мне теперь, генерал, в котором часу прибыл сюда доктор? — спросил диктатор прежним деловым тоном.
— Ровно в полдень, ваше превосходительство.
— А просил он чего-нибудь?
— Раз попросил стакан воды, а потом два раза просил огня.
— Говорил он что-нибудь?
— Ничего, ваше превосходительство.
— Хорошо. Отдай ему назад вот это его прошение, которое он мне вчера представил, и скажи,чтобы он переделал его и оставил на бумаге поля, а в другой раз не забывал бы распоряжений правительства.
— Слушаю, ваше превосходительство.А потом можно отпустить его?
— Можно. Он уже двенадцать часов ничего не ел и теперь достаточно напуган. Это научит его уважать мои распоряжения.
Корвалан с поклоном повернулся и, выйдя из залы, направился в комнату, где, как мы уже говорили, сидел в задумчивости человек, одетый в черное.
ОТЕЦ И ДОЧЬ
После ухода старика Розас помолчал немного, потом снова обратился к первому секретарю:
— Сделаны извлечения из сообщений из Монтевидео?
— Сделаны, ваше превосходительство.
— И доклад полиции?
— Отмечен, ваше превосходительство.
— В котором часу хотели они сегодня сесть на судно?
— В одиннадцать.
— А теперь без четверти двенадцать, — проговорил диктатор, взглянув на свои карманные часы. До сих пор нет никаких донесений; должно быть, они побоялись выполнить свой замысел, — прибавил он вставая. — Ну, можете уходить... А это еще что за черт? — вскричал он, заметив свернувшегося клубком на полу человека в монашеской рясе. — А, отец Вигуа!.. Не угодно ли вашему преподобию проснуться!
И диктатор нанес сильный удар монаху ногой в бок.
Монах с пронзительным криком вскочил на ноги и чуть было опять не упал, запутавшись в рясе. Секретари удалялись один за другим, подобострастно улыбаясь на грубую выходку его превосходительства.
Розас остался один с мулатом, который отличался маленьким ростом, порядочной толщиной, широкими плечами, громадной головой, лицом с жирными щеками, низким и узким лбом, едва заметным носом и маленькими, заплывшими жиром глазами; вся его безобразная физиономия носила печать глупости и низости.
Это был один из тех кретинов, которыми Розас любил забавляться в минуты досуга.
Бедный мулат, с видом бессмысленного, побитого животного, таращил свои испуганные глаза на диктатора и почесывал ушибленный бок.
Розас смеялся во все горло, стоя перед ним, когда возвратился старик Корвалан.
— Как это вам понравится, — обратился к нему диктатор: его преподобие изволил спать, пока я работал!
— Это очень дурно, — ответил с прежней невозмутимостью адъютант.
— Я его разбудил, а он на это изволит гневаться.
— Он ударил меня, — глухим голосом проговорил мулат, широко открывая свои желтоватые губы, за которыми сверкали два ряда замечательно белых, мелких и острых зубов.
— Ну, ничего, отец Вигуа! — сказал Розас, хлопая его по плечу. — Мы сейчас пойдем кушать, а это, надеюсь, утешит ваше преподобие... Корвалан, доктор ушел?
— Ушел, сеньор.
— Он ничего не говорил?
— Ничего.
— А в каком положении мой дом?
— В сенях восемь человек стражи, в бюро три адъютанта, а на малом дворе пятьдесят человек вооруженных солдат.
— Хорошо. Можешь уходить в бюро.
— А если придет начальник полиции?
— Примешь от него доклад.
— А если начальник...
— Если придет хоть сам черт, то вы и его выслушаете и донесете мне потом! — грубо перебил Розас.
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Вот еще что...
— Что изволите приказать?
— Если придет Кутино, сейчас же доложи мне.
— Хорошо.
— Теперь ступай... Есть хочешь?
— Благодарю, ваше превосходительство. Я уже поужинал.
— Тем лучше для тебя... Ступай!
Корвалан удалился в бюро, то есть к тем троим отталкивающего вида субъектам, которых мы видели развалившимися в комнате, непосредственно примыкавшей к коридору. Прежде в этой комнате помещалась контора провинциального комиссариата, почему она и сохранила название «бюро»; в настоящее же время она служила дежурной комнатой для «адъютантов» Розаса, который, издеваясь над всеми политическими и гражданскими принципами общества, издевался и над природой, превращая день в ночь, а ночь — в день.
Действительно, днем он спал, а ночью работал или пил и веселился.
— Мануэла! — крикнул диктатор после ухода Корвалана.
Ответа не последовало. Продолжая звать, он вошел в соседнюю комнату, где совершенно оплывшая сальная свеча с нагоревшим шапкой фитилем распространяло слабый желтоватый свет.
— Татита! — послышался из второй комнаты серебристый голосок, и вслед за тем перед Розасом появилась та самая женщина, которую мы видели спящей.
Это была молодая девушка лет двадцати двух, высокая, с тонкой талией, стройная и удивительно грациозная, с прекрасным, умным и ангельски-кротким личиком, утопавшим в массе черных шелковистых волос, с прямым носом, живыми черными глазами и довольно большим, но красиво очерченным ртом. Очевидно, она была очень нервная и чувствительная, но не капризная, как большинство нервных особ.
Малинового цвета мериносовое платье сидело на ней, как влитое, оставляя обнаженными плечи, отличавшиеся такой же мраморной бледностью, как и ее лицо.
Это была дочь Розаса, донна Мануэла.
— Ты никак уже спала? — ворчливо проговорил Розас. — Дождешься ты у меня, что я в один непрекрасный день обвенчаю тебя с отцом Вигуа, которому ты вполне пара по своей сонливости... Мария Жозефа была?
— Была, татита; она просидела у меня до половины одиннадцатого.
— А кто еще был?
— Донна Паскуала с Паскуалитой.
— С кем они ушли?
— Их пошел проводить Мансилла.
— Более никого не было?
— Заходил Пиколет.
— А! Каркаман... дрянь порядочная!.. Кажется, ухаживает за тобой? А?
— Скорее за вами, татита.
— Гм!.. Ну, а еретик Гринго не был?
— Нет, татита, у него званый вечер с музыкой... кто- то у него будет играть на фортепьяно.
— Кто же у него хотел быть?
— Чуть ли не все англичане.
— В таком случае они должны сейчас быть в прекрасном состоянии!
— Не желаете ли кушать, татита?
— Конечно! Прикажи подавать ужин.
Пока донна Мануэла ходила распорядиться относительно ужина, Розас вошел в свою спальню, сел на край постели, снял сапоги, которые носил на голую ногу, и переменил их на стоптанные туфли. Затем, запустив руку под тонкую кольчугу, доходившую до половины бедер, минут пять почесывался с видом наслаждения, доказывавшим, как сильно в нем были развиты чисто животные инстинкты.
Вскоре донна Мануэла объявила из следующей комнаты, что ужин подан.
Розас встал, потянулся, оправил на себе костюм и отправился в комнату налево, где на просто сервированном столе стояли блюда — одно с жареным мясом, другое — с жареной уткой, тарелки с кремом и ваза с разными сластями. Перед прибором хозяина красовались две бутылки с бордосским вином.
Старая мулатка, давнишняя и единственная женская прислуга Розаса, прислуживала за столом.
Диктатор резким криком позвал мулата, который опять ухитрился заснуть, прислонившись спиной к стене в кабинете его превосходительства; после этого все сели за стол.
— Хочешь мяса? — спросил он донну Мануэлу, отрезая себе громадный кусок.
— Нет, благодарю, татита.
— Так поешь утки.
Молодая девушка взяла крыло утки и начала медленно обрезать его больше для вида, чем из желания есть, так как она давно уже поужинала. Розас же с жадностью принялся истреблять мясо, запивая чуть ли не каждый кусок стаканом вина.
— Что ж это вы, ваше преподобие, не кушаете? — спросил он у мулата, видя, как алчно тот смотрит на блюда, но не решается приняться за них без особого приглашения. — Мануэла, угощай аббата.
Донна Мануэла отрезала тощую утиную ногу и положила ее на тарелку мулата, который бросил на молодую девушку взгляд, сверкнувший злобой.
Розас подхватил этот взгляд.
— Что с вами, отец Вигуа? — осведомился он. — С чего это вы вздумали делать такую ужасную рожу моей дочери?
— Она дала мне только кость! — буркнул мулат, отправляя себе в рот громадный кусок хлеба.
— В самом деле, что это значит, Мануэла? — с напускной строгостью обратился диктатор к дочери. — Ты обижаешь того, который должен благословить твой брачный союз с высокоблагородным португальским идальго, доном Гомесом де Кастро, только еще вчера подарившим его преподобию два реала? Это очень дурно, Мануэла, Встань, поцелуй у аббата руку и попроси прощения.
— Это успеется и завтра, татита, — с улыбкой ответила молодая девушка.
— Нет, ты сделаешь это сейчас же!
— Зачем, татита? — спрашивала донна Мануэла с самой невинной улыбкой, точно не понимая намерений своего отца.
— Мануэла, я говорю тебе: сию минуту поцелуй у его преподобия руку!
— Не стану.
— Станешь!
— Нет, татита!
— Отец Вигуа, поднимитесь и поцелуйте ее в губы! — сказал Розас.
Мулат встал, обгрызая кость.
Донна Мануэла взглянула на него с таким высокомерием, презрением и гневом, что жалкий кретин почувствовал бы себя очень скверно, если бы не присутствие Розаса.
Поощряемый взглядом диктатора, мулат приблизился к молодой девушке, которая в ужасе закрыла лицо обеими руками, чтобы уберечь его от осквернения, приказанного отцом. К счастью, мулат, которому несравненно сильнее хотелось есть, чем целоваться, удовольствовался тем, что чмокнул девушку своими сальными губами в голову.
— Эх вы, ваше преподобие! — со смехом воскликнул Розас. — Разве так целуют женщин?.. А ты, Мануэла, дрянная лицемерка! Будь на месте преподобного отца какой-нибудь смазливый мальчишка, ты не стала бы так щепетильничать.
С этими словами он налил себе и осушил новый стакан вина, между тем, как его дочь, вся пунцовая от стыда и отвращения, украдкой утирала выступившие на глазах слезы.
Между тем диктатор продолжал есть с аппетитом, доказывавшим хорошее состояние и удивительную емкость его желудка, как и вообще — завидную крепость его замечательного организма, на который, казалось, ничто не действовало вредно.
После мяса, он доел утку, крем и сласти, изредка презрительно швыряя небольшие подачки мулату.
Наконец, когда все было уничтожено, он снова обратился к дочери, сидевшей молча, но, судя по игре ее подвижного лица оживленно беседовавшей с самой собой.
— Так тебе не понравился поцелуй его преподобия? А? — спросил он.
— Как может понравиться мне, что вы позволяете всякой грязной гадине унижать и оскорблять меня!— воскликнула молодая девушка дрожащим голосом. — Не далее, как вчера сумасшедший Евсевий схватил меня при всех на улице и поцеловал. Хотя он и подверг меня этим всеобщему осмеянию, но никто не решился остановить его, потому что это один из любимых дурачков губернатора! А теперь этот...
— Ты знаешь, я приказал за это дать Евсевию двадцать пять ударов бичом и посадить его на неделю в карцер.
— Что ж из этого! Позор вы этим с меня не смоете и не избавите от насмешек и глумлений общества... Я еще могу кое-как понять, что вы забавляетесь этими идиотами, которые составляют ваше единственное развлечение, но решительно отказываюсь понимать, что побуждает вас натравлять их на меня! Раз вы позволяете им в своем присутствии вольности относительно меня, то они, конечно, считают себя в праве оскорблять меня и без вас повсюду, где бы, ни встретили... Я, пожалуй, готова выслушивать их глупости и пошлости, но позволять им трогать меня грязными ручищами — это уж даже из уважения и покорности к вам... Неужели вам может доставлять удовольствие видеть, как вашу дочь оскверняют своим прикосновением разные идиоты, которым место в специально устраиваемых для них лечебницах, а не в...
— Однако ты не находишь же, что ласки твоих собак оскорбляют, унижают и оскверняют тебя?
— Моих собак! — вскричала донна Мануэла, гнев которой все более разгорался, по мере того, как затаенное внутри чувство прорывалось наружу. — Как вы можете сравнивать этих идиотов с моими собаками... вообще с чьими бы то ни было собаками!.. Хорошо бы было, если бы вы окружили себя собаками вместо этих отвратительных безмозглых скотов... этих уродливых карикатур на людей!.. Собаки послушны, преданы и верны... они защитили бы вас, когда нагрянет та страшная катастрофа, которую каждый считает своей обязанностью предвещать мне намеками...
— Кто же именно делает тебе эти намеки? — спросил диктатор, лицо которого вдруг сильно омрачилось.
— Ах, Боже мой, да все! — ответила донна Мануэла, уже начиная успокаиваться, благодаря своему прекрасному, незлобивому характеру. — Положительно все, бывающие у нас, стараются напугать меня таинственными сообщениями о заговорах, устраиваемых во многих местах, и об окружающих вас всюду опасностях.
— Какого же рода, по их мнению, эти опасности?
— Ну, этого никто не решается высказывать прямо; все только дают понять — довольно, впрочем, прозрачно, — что унитарии ежеминутно способны посягнуть на вашу жизнь. Советуют мне бодрствовать над вами, не оставлять вас никогда одного, самой запирать двери... При этом все предлагают мне свои услуги, но едва ли искренне, вероятно, только потому, что знают, что я не приму их.
— Почему же ты думаешь, что не искренне?
— Почему? Неужели вы воображаете, что Гарригос, Торрес, Арана, Грасиа и прочие сеньоры, являющиеся сюда только ради собственных интересов, способны рискнуть своей жизнью для кого бы то ни было? Если уж они боятся, то только за себя, а никак не за нас с вами.
— Может быть, ты и нрава, — спокойно проговорил Розас, комкая в руках лежавшую перед ним салфетку. — Но если унитарии не убьют сейчас, то им никогда не убить меня... Однако мы отошли от сути. Я не хочу, чтобы ты сердилась на его преподобие, и требую твоего примирения с ним... Отец Вигуа, — обратился он к мулату, облизывавшему блюдо, на котором лежала утка, — поцелуйте мою дочь два раза, чтобы она перестала сердиться.
— Нет, татита! — с ужасом вскричала молодая девушка, вскакивая со своего места ипятясь от противного идиота, который готовился исполнить приказание ее отца, хотя вовсе не был расположен к этому, не находя для себя ничего привлекательного в этой «костлявой злючке», как он мысленно называл дочь Розаса.
— Обнимите ее, ваше преподобие! — раздался резкий голос Розаса.
— Поцелуйте меня, — сказал мулат, приближаясь к донне Мануэле.
— Ни за что! — ответила та, еще дальше отступая назад.
— Не церемоньтесь, ваше преподобие! — подуськивал Розас. — Поймайте ее и поцелуйте!
— Я говорю вам — нет! — кричала бедная девушка, отбегая на противоположную сторону комнаты.
Мулат бросился за ней. Началась настоящая травля. Розас хохотал, как сумасшедший, и стыдил мулата за неповоротливость.
Вдруг посреди шума, беготни, смеха и восклицаний послышался топот многочисленных лошадей, подъезжавших к дому.
По знаку Розаса, донна Мануэла и мулат замерли на месте. Молодая девушка благодарила Бога за случай, избавлявший ее хоть на этот раз от безобразной прихоти отца.
КОМЕНДАНТ КУИТИНО
Кавалькада остановилась у подъезда дома Розаса.
Диктатор сделал дочери знак узнать, кто прибыл.
Молодая девушка поспешно вышла из столовой. На ходу она встряхнула своей маленькой головкой, как бы желая отогнать мучительное воспоминание о том, что сейчас происходило, чтобы всецело отдаться заботе о безопасности отца.
— Кто подъехал, Корвалан? — спросила она, встретив возвращающегося из сеней адъютанта отца.
— Комендант Куитино, сеньорита, — ответил старик.
Донна Мануэла возвратилась вместе с ним в столовую.
— Приехал комендант Куитино, ваше превосходительство!— доложил Корвалан, переступая порог столовой.
— С кем он? — спросил Розас.
— С конвоем.
— Я не о том спрашиваю. Разве вы думаете, что я глухой и не слыхал стука копыт нескольких лошадей?
— Кроме конвоя, с ним никого нет.
— Хорошо. Пусть он войдет.
Розас поудобнее расположился в своем кресле. Донна Мануэла опустилась рядом с ним на свое место, повернувшись спиной к той двери, из которой вышел адъютант.
Отец Вигуа тяжело шлепнулся на стул в конце стола. Служанка, по приказанию Розаса, принесла новую бутылку вина и сейчас же удалилась.
Вскоре в соседних комнатах зазвенели шпоры, и через минуту в столовую вошел Куитино, этот страшный человек, игравший такую видную роль в федерации. Он держал в руке шляпу, обернутую красным крепом в знак официального траура, установленного губернатором по случаю смерти своей жены. Синее суконное пончо закрывало почти всю фигуру коменданта. Волосы в беспорядке падали на его круглое, мясистое, загорелое лицо, носившее резкий отпечаток всех дурных страстей, гнездившихся в черной душе этого человека.
— Здравствуйте, дружище! — по возможности мягко проговорил вошедшему Розас, окинув его быстрым взглядом с головы до ног.
— Позволяю себе пожелать вашему превосходительству доброй ночи, — хриплым голосом произнес комендант.
— Идите, идите сюда... Мануэла, подай коменданту стул, а вы, Корвалан, можете уходить.
Донна Мануэла поставила стул таким образом, чтобы Куитино сел между ней и ее отцом.
— Не желаете ли промочить горло, комендант? — продолжал Розас.
— Очень благодарен, ваше превосходительство.
— Мануэла, налей ему вина, — приказал диктатор.
Пока молодая девушка протягивала руку за бутылкой, Куитино освободил свою правую руку из-под пончо и схватил стакан, который стал держать перед донной Мануэлой, чтобы ей удобнее было наливать. Донна Мануэла, взглянув на руку Куитино, так задрожала, что пролила часть вина на скатерть.
Весь рукав и сама рука коменданта были покрыты кровью. Лицо же Розаса просияло радостью, когда он заметил кровь; но в следующее мгновение оно приняло свое обычное равнодушно-мрачное выражение.
Наполнив стакан, донна Мануэла, бледная как смерть, инстинктивно откинулась назад.
— За здравие вашего превосходительства и донны Мануэлы! — провозгласил комендант, низко наклонив голову, и залпом осушил стакан, между тем как монах с широко вытаращенными глазами делал молодой девушке знаки, чтобы она взглянула на руку своего соседа, думая, что та не заметила крови.
— Ну, что вы сделали? — спросил Розас будто вскользь, глядя прямо перед собой на стол.
— Исполнил приказание вашего превосходительства.
— Какое приказание?
— Гм!.. Ваше превосходительство поручили мне...
— Ах, да! Вспомнил: проехаться вокруг бахо... Кордова говорил Викторике о каких-то субъектах, намеревающихся пробраться к армии этого гнусного унитария Лаваля... Да, кажется, я, действительно, поручил вам поприглядеть немного за бухтой. Викторика хотя и хороший федерал, но иногда страдает своего рода сонливостью и частенько дремлет, когда нужно смотреть в оба.
— Бывает этот грешок, ваше превосходительство, — с гадкой улыбкой согласился комендант.
— И вы были в бахо?
— Да, посоветовавшись с Кордовой насчет плана действий, я отправился к бухте со стороны Боки.
— И нашли там кого-нибудь.
— Нашел, Кордова привел несколько человек. По его сигналу я сделал на них нападение.
— Взяли их в плен?
— Нет. Разве ваше превосходительство забыли, что изволили приказывать мне?
— Ах да! Эти мерзкие людишки совсем вскружили мне голову и отшибли память.
— И не мудрено. У вашего превосходительства столько дел, а тут еще эти...
— Да, и если бы вы знали, как мне надоело возиться с ними! Положительно не придумаю, что еще предпринять, чтобы обуздать их. До сих пор я приказывал только арестовывать их и обращался с этими негодяями, как добрый отец с расшалившимися детьми, надеясь этим их исправить. Но они не исправляются. Самим федералистам следовало бы теперь приняться за них, ради своей же собственной безопасности. Ведь если Лаваль восторжествует, — всем нам придется очень плохо.
— Карай! Ему никогда не восторжествовать!
— Ну, этого нельзя сказать так решительно... Я хотел еще раз напомнить вам, что вы оказали бы мне большую услугу, если бы взяли у меня власть, которой я страшно тягощусь. Если я сам не слагаю ее с себя, то только по вашим неотступным просьбам, вы знаете это.
— Ваше превосходительство — отец федерации, и...
— Да, но вы все должны помогать мне исполнять мои тяжелые и ответственные обязанности... Поступайте с этими гнусными людьми, как сами найдете нужным, и не забывайте, что они растерзают вас, если возьмут верх.
— Не возьмут, будьте покойны!
— Всегда следует иметь в виду худшее... Я говорю вам это, чтобы вы передали мои слова всем нашим друзьям.
— Когда прикажете нам собраться, ваше превосходительство?
— Погодите... Много их было?
— Пять человек.
— И вы дали им возможность повторить их попытку к бегству?
— Нет, их отвезли в полицию в тележке. Кордова уверил меня, что так было приказано начальником...
— Вот до чего они довели себя!.. Очень грустно, но я понимаю, что вам иначе нельзя было поступить, чтобы самому не остаться без головы в случае их торжества.
— Ну, эти уже более никогда никого не лишат головы, за это я могу поручиться, ваше превосходительство, — с дикой радостью произнес комендант.
— Значит, они ранены?
— Да, в горло.
— А не было с ними бумаг? — спросил Розас, не будучи более в состоянии выдерживать свою лицемерную роль и скрыть своего удовольствия по поводу того, что он узнал обходным путем, не находя удобным предлагать свои вопросы прямо.
— Ни у одного из всех четверых, отвезенных в тележке в полицию, не было никаких бумаг, — ответил Куитино.
— Как из четверых?.. Вы, кажется, сказали, что их было пятеро.
— Да, ваше превосходительство. Но так как один из них бежал...
— Как бежал?! — вскричал диктатор, выпрямляясь и прожигая коменданта молниеносным взглядом раздраженного властелина.
Куитино вздрогнул, побледнел и потупился перед этим грозным взглядом.
— Увы, ваше превосходительство, один бежал, — чуть внятно прошептал он, наверное, внутренне заклиная землю, чтобы она разверзлась и поглотила его.
— Кто же именно? Как его имя?
— Не знаю, ваше превосходительство, имя его осталось неизвестным.
— Но кто-нибудь же знает его?
— Кордова должен знать.
— А где Кордова?
— Я его не видал с того момента, как он подал мне сигнал.
— Странно!.. Но каким же образом этот гнусный унитарий мог ускользнуть?
— Не знаю... Изволите видеть, ваше превосходительство. Когда мы окружили их, один из них каким-то чудом проскочил и бросился бежать. Несколько солдат погнались за ним... они должны были спешиться, чтобы атаковать его... говорят, у него была шпага, которой он убил троих... Потом, говорят, к нему кто-то подоспел на помощь... Это было уже около дома английского посланника.
— Английского посланника?!
— Так точно, ваше превосходительство.
— Хорошо. Дальше что?
— Один из моих молодцов, имевших с ним дело, возвратился и рассказал, как все происходило. Я разослал по всему городу и окрестностям людей искать беглеца, но до этой минуты не имею никаких сведений, разыскан он или нет.
— Как могли вы допустить, чтобы у вас, так сказать, из-под носа убежал унитарий?! — громовым голосом закричал Розас над ухом и без того уже едва помнившего себя от страха Куитино, в эту минуту удивительно напоминавшего зверя, которому только один страх препятствует разорвать своего укротителя.
— Я был занят другими четырьмя, — пробормотал он, весь сжавшись в комок. — Я перерезал им собственной рукой горло, — добавил он сквозь стиснутые от страха и злобы зубы.
Вигуа в продолжение этой страшной беседы все дальше и дальше отступавший от стола, при последних словах коменданта привскочил и притом так неудачно, что ударился головой о стену, к которой прижался было, между тем как донна Мануэла, бледная и трепещущая, сидела как приговоренная к смерти, боясь поднять глаза, чтобы не увидеть опять окровавленной руки соседа и не встретиться со страшным взглядом своего отца.
Глухой стук толстого черепа мулата привлек внимание Розаса и моментально дал другое направление его настроению, которое у него вообще беспрестанно менялось от самых иногда пустячных причин.
Поглядев несколько времени в сторону мулата, причем по его тонким, сжатым губам скользнула едва заметная улыбка, диктатор совершенно спокойным голосом проговорил:
— Я спрашивал вас, комендант, не потому, чтобы я желал, что один из унитариев избежал смерти, как вы, может быть, думаете, а потому, что, наверное, как раз у него-то и были какие-нибудь бумаги и письма к Лавалю.
— О, если бы он мне только попался! — проскрежетал зубами Куитино, сжимая кулаки.
— Да, если бы он попался! — с легкой иронией заметил диктатор. — Не беспокойтесь, мой друг, он вам более не попадется, раз вы упустили его. Унитариев не так легко ловить, как кажется с первого взгляда... Я уверен, что этого молодчика вы никогда не поймаете.
— Поймаю, ваше превосходительство, хотя бы мне ради этого пришлось пробраться в самый ад!..
— Сомневаюсь.
— Клянусь вашему превосходительству, что...
— Действительно, следовало бы найти его, так как бумаги, имевшиеся у него, раз их не нашлось у его спутников, должны быть важны для ме... для вас, моих друзей, и всех федералов.
— Будьте покойны, ваше превосходительство, этот изменник ушел от меня не надолго.
— Мануэла, позови Корвалана, — вдруг распорядился Розас.
— Кордова должен знать имя беглеца, ваше превосходительство, и если вашему превосходительству угодно-...—начал было Куитино, но диктатор перебил его:
— Это дело ваше. Если вам нужно знать имя этого негодяя, то узнавайте у кого хотите... Кстати, не нужно ли вам чего?
— Благодарю, ваше превосходительство, в настоящее время я ни в чем не нуждаюсь. Я вполне доволен вашей милостью, служу вашему превосходительству верой и правдой и всегда готов буду служить до последней капли крови. Если это понадобится для вашего превосходительства, то я охотно дам изрубить себя в куски. Мы отлично понимаем, как много ваше превосходительство делает для нас, защищая от унитариев и...
— Вот, Куитино, снесите этот небольшой подарок вашему семейству, — милостиво проговорил Розас, не давши ему кончить.
С этими словами он вынул из кармана сверток банковских билетов и протянул его коменданту, поднявшемуся со своего места.
— Благодарю, ваше превосходительство от имени моего семейства, — с глубоким поклоном сказал Куитино, принимая деньги — плату за ту кровь, в которой были обагрены его руки.
— Продолжайте служить федерации, мой друг, и награда не заставит себя ждать, — тем же милостивым тоном проговорил Розас.
— Буду служить ей всеми силами, потому что ее представители — ваше превосходительство и донна Мануэла...
— Хорошо, хорошо!.. Поезжайте же к Кордове... если хотите... Стаканчик вина на дорожку. А?
— Очень благодарен вашему превосходительству; больше не могу.
— Ну, так с Богом! — и диктатор протянул руку коменданту.
— Прошу извинения у вашего превосходительства: моя рука запачкана, — пробормотал, как бы конфузясь, комендант.
— Ничего, мой друг: кровь унитариев не может запачкать.
Схватив окровавленную руку своего помощника, Розас с видимым наслаждением продержал ее несколько секунд в своей.
— О, какое счастье было бы умереть за ваше превосходительство! — с искусственным энтузиазмом воскликнул Куитино.
— Ну, ну, с Богом, мой друг!
Когда комендант выходил из комнаты, диктатор провожал его с видимым удовольствием. Куитино был для него живой гильотиной, приводимой в действие лишь его волей и без малейшего рассуждения скашивавшей все, что было лучшего и благороднейшего в стране. Но Розас хорошо понимал и то, что, найдись воля сильнее его и овладей она этой страшной машиной, последняя не задумается перерезать горло и ему самому. Сознание этого заставляло его часто чуть не заискивать у своего ужасного помощника.
Для утверждения своего владычества Розас вытащил многих из грязи и сделал их послушными орудиями своей воли, дав им известное положение и награждая по временам довольно крупными подачками.
В этот ужасный час, когда Буэнос-Айрес бился в предсмертных конвульсиях своей свободы, Розас, был желанным вождем невежественной и фанатичной толпы, хищнические инстинкты которой он поощрял, впрягая ее в то же время в свое желанное ярмо. И Куитино, низкий человек, только и способный на то, чтобы душить и резать, был как бы выражением невежественной, озверелой массы, воображавшей в своем жалком неведении, будто ей станет лучше, если будут истреблены все, действительно благородные, честные и разумные люди.
— Покойной ночи, донна Мануэла, — проговорил Куитино, встретившись с возвращавшейся к отцу молодой девушкой, за которой следовал Корвалан.
— Покойной ночи, — ответила она, машинально сторонясь этого покрытого кровью человека.
— Корвалан, — сказал Розас, когда старик подошел к нему, — ступайте, разыщите Викторику и приведите его сюда ко мне.
— Викторика только что сам приехал, ваше превосходительство, и сидит в бюро. Он спрашивал у меня, не соблаговолит ли сеньор губернатор уделить ему минуту своего драгоценного времени.
— Ага! Пусть войдет.
— Сейчас я позову его.
— Постойте...
— Что прикажете?
— Возьмите лошадь и отправьтесь к английскому посланнику. Вызовите его и лично скажите ему, что мне необходимо видеть его немедленно.
— А если он уже спит?
— Встанет, эка важность!
Корвалан поклонился и поспешно удалился, подвязывая на ходу свой рваный шарф, который съехал на живот, так что шпажонка волочилась по полу.
— Что это ваше преподобие так изволит бояться нашего друга Куитино? — обратился Розас к мулату. — Потрудитесь опять пожаловать к столу и сесть на свое место, а то вы прилипли к стене точно паук... Ну-с, почему вы так боитесь коменданта? А?
— У него рука в крови, — пробурчал мулат, занимая свое прежнее место и косясь на дверь, как бы опасаясь, что Куитино, внушавший непреодолимый ужас, может возвратиться и перерезать горло и ему, как он это делал с другими.
— А с тобой что, Мануэла? Нездоровится, что ли? — продолжал диктатор, пронизывая дочь своим острым взглядом.
— Почему это вам так кажется, татита? — осведомилась молодая девушка.
— Потому, что ты как-то странно ежилась и манерничала при коменданте.
— Вы видели у него...
— Я все видел.
— Ну, так как же вы хотите, чтобы я...
— Я хочу, чтобы ты в таких случаях делала вид, будто ничего не замечаешь, поняла?.. Помни, что таких людей следует или бить так, чтобы у них все кости трещали, или вовсе не трогать, потому что легкий укол раздражает их, как змей, и тогда они становятся опасными.
— Мне страшно было глядеть на пего, татита.
— Страшно! — с презрением повторил Розас. — Я могу убить этого гада одним взглядом, когда он мне не будет более нужен или когда он вздумает обратить свое жало против меня.
— Вы — дело другое, татита, а я не могу без содрогания вспомнить о том, что он сделал.
— Это было сделано ради моей и твоей безопасности, дурочка. Прошу никогда не объяснять иначе все, что происходит вокруг меня. Я даю этим людям понять только то, что нахожу нужным, и распоряжаюсь ими по своему усмотрению. Они беспрекословно исполняют мою волю, а потому ты должна выказывать им свое удовольствие и даже стараться польстить им. Много ли нужно таким тварям?.. Следует только не сторониться их и гладить хотя бы слегка по головке,- тогда из них можно веревки вить. Если ты не желаешь делать этого по личному побуждению, из благоразумия, то приказываю тебе обращаться с ними, как обращаюсь я сам... А, Викторика! Войдите, — добавил он, обернувшись к дверям.
ДОН БЕРНАРДО ВИКТОРИКА
В столовую входил сеньор дон Бернардо Викторика начальник полиции Розаса.
Это был человек лет пятидесяти двух, небольшого роста, но очень плотного сложения. Его лицо было медно-красного цвета, черные волосы начинали седеть; широкий лоб сильно выдавался над густыми щетинистыми бровями; маленькие, глядевшие исподлобья глаза, горели красноватым огнем, как у коршуна; две глубоких борозды шли от внешних углов носа до конца верхней губы.. Жестоким и угрюмым выражением своей отталкивающей физиономии он был вполне под пару своему сотруднику Куитино. Вообще все приближенные Розаса имели такие физиономии, свидетельствовавшие об их бесчеловечности и самом низком нравственном уровне. Другие люди и не могли служить Розасу, он отлично знал это.
Викторика был одет в черные панталоны, в красный жилет и голубой суконный на шелковой подкладке камзол. К одной из бутоньерок был прикреплен федеральный значок громадных размеров. На правой руке у него висел короткий, но крепкий бич с серебряной рукояткой. В левой руке он держал шляпу, тоже обвитую красным крепом.
Отвесив Розасу и его дочери глубокий, почтительный поклон, Викторика, по знаку диктатора, сел на тот самый стул, который только что был оставлен комендантом.
— Вы из здания полиции? — начал Розас.
— Да, прямо оттуда, ваше превосходительство.
— Случилось что-нибудь?
— Привезли трупы людей, собиравшихся в эту ночь бежать в армию Лаваля. Один из этих людей, впрочем, еще жив, но с минуты на минуту должен умереть.
— А! Это верно?
— Верно, я думаю, он теперь уже должен быть мертв. Он был при последнем издыхании, когда я уезжал.
— А кто это?
— Полковник Салазар.
— Узнали вы имена остальных?
— Узнал, сеньор губернатор.
— Кто же это?
— Пальмеро, Сандоваль и молодой Маркес.
— Бумаг не было при них?
— Никаких.
— Заставили вы Кордову подписать свой донос?
— Конечно. Я вообще заставил его подписать все доносы, как вы приказывали, ваше превосходительство.
— Донос Кордовы с вами?
— Со мной, вот он.
Викторика достал из внутреннего кармана камзола портфель из русской кожи, наполненный множеством бумаг. Порывшись, он вытащил большой, сложенный вчетверо лист, развернул его и положил на стол.
— Читайте, — произнес Розас.
Дон Бернардо опять взял бумагу в руки и прочитал следующее:
«Второго мая сего тысяча восемьсот сорокового года, в час пополудни, явился к начальнику полиции Хуан Кордова, уроженец Буэнос-Айреса, по профессии мясник, член Народного общества, зачисленный по особой рекомендации его превосходительства, светлейшего реставрадора законов, в охрану с временными полномочиями, — и объявил: узнав через служанку гнусного унитария Пальмеро, с которой он состоит в интимных отношениях, что Пальмеро имеет намерение бежать в Монтевидео, он, Хуан Кордова, отправился к Пальмеро, которого давно знает лично, и сказал ему, что он пришел просить ссудить его пятьюстами пиастров, так как он тоже хочет дезертировать и укрыться в Монтевидео, но не может этого сделать по недостатку средств для уплаты судовладельцу, лично ему известному и живущему только перевозкой эмигрантов. Выслушав его, Пальмеро стал расспрашивать его подробно. Кордова давал такие ответы, что Пальмеро, наконец, открылся ему, что он и четверо его друзей тоже намерены бежать, но, к несчастью, не знают ни одного судовладельца, которому могли бы довериться. Тогда Кордова предложил им свои услуги, уверив его, что поможет ему и его друзьям эмигрировать вместе с ним, если они дадут ему восемь тысяч пиастров, с помощью которых он мог бы устроиться в Монтевидео. Пальмеро обещал дать Кордове просимую сумму, и торг был заключен. Уверив Пальмеро и его гнусных сообщников, что ему очень много нужно хлопотать по принятию различных мер предосторожности, Кордова протянул несколько дней и назначил отъезд на четвертое мая в одиннадцать часов вечера. Этого же числа, в шесть часов вечера, он должен побывать у Пальмеро, чтобы узнать, в каком доме или месте соберутся желающие эмигрировать.
Вышеизложенное объявлено Хуаном Кордовой, во исполнение своих обязанностей верного защитника священного дела федерации, начальнику полиции для донесения его превосходительству, светлейшему реставрадору законов. При этом Хуан Кордова присовокупил, что во всем этом деле он в точности следовал указаниям дона Хуанчито Розаса, сына его превосходительства.
Что и подписано им, Хуаном Кордовой, 3 числа мая 1840 года.
Xуан Кордова».
Окончив чтение, Викторика, сложил бумагу.
— В силу этого объяснения, — сказал он, — я и получил вечером второго же мая от вашего превосходительства приказание передать Кордове, чтобы он вошел в соглашение с комендантом Куитино.
— Когда вы после того видели Кордову? — спросил Розас.
— Сегодня в восемь часов утра.
— Он не говорил вам, что знает имена спутников Пальмеро?
— Утром еще они не были ему известны.
— Ничего особенного не произошло вечером, во время поимки гнусных унитариев?
— Кажется, одному из них удалось бежать, если верить тому, что говорили люди, провожавшие тележку.
— Да, сеньор, один из унитариев, действительно, убежал, и вам следует найти его, — строго сказал Розас.
— Приложу все старания, ваше превосходительство.
— Да, сеньор, постарайтесь...
— Раз правительство наложило руку на унитария, он не должен иметь повода говорить, что эта рука не в силах удержать то, что схватила. В этих случаях число людей ровно ничего не значит; один человек, издевающийся над моим правительством, делает ему столько же зла, сколько могли бы нанести вреда двести... даже тысяча.
— Ваше превосходительство совершенно правы.
— Знаю, что я прав, в особенности после полученного мной сообщения, что один из унитариев успел скрыться, уложив на месте несколько человек из команды Куитино и, что всего хуже, получив от кого-то помощь и поддержку. Подобный случай не должен повториться; я не желаю и не допускаю этого, слышите, сеньор Викторика?.. Знаете ли вы, почему наша страна постоянно была подвержена анархии? Потому, что как только первому попавшему глупому молокососу приходила фантазия отличиться, он вытаскивал шпагу и шел против правительства. Горе вам, горе всем федералам, если я допущу, чтобы унитарии осмеливались противиться вам, когда вы исполняете мои распоряжения!
— Такой казус случился только раз, — заметил дон Бернардо, отлично понявший верность рассуждений Розаса и всю важность случившейся в тот вечер неудачи, являвшейся афронтом для правительства.
— Такой казус случился только раз! — насмешливо повторил диктатор. — В том-то и дело, что это еще небывалый случай, поэтому и нужно обращать на него особенное внимание! Прошу вас и всех моих друзей твердо помнить, что право нововведений я безусловно сохраняю только за собой... Если пропустить безнаказанно этот небывалый казус без внимания, он будет повторяться и скоро сделается обычным явлением.
— Кордова, наверное, знает имя убежавшего...
— Может быть, знает, а может быть и нет.
— Я сейчас же прикажу разыскать его и привести к себе.
— Не трудитесь: я уже послал к нему другого.
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Да, и этому другому поручено расспросить Кордову. Утром я сообщу вам, знает он или нет имя беглеца, которого я нахожу нужным разыскать во что бы то ни стало. Надеюсь, и вы примете соответствующие меры.
— Немедленно же приму, ваше превосходительство.
— А что вы сделаете, если Кордова не знает его имени?
— Прикажу комиссарам и главным агентам тайной полиции направить всех своих подчиненных на поиски человека, который...
— Искать булавку в стоге сена! — полусаркастически, полупрезрительно произнес Розас.
Бедный Викторика, воображавший, что ни весть как умно придумал, сидел точно ошпаренный.
— Понимаете ли вы, что значит разыскивать в Буэнос-Айресе унитария с помощью агентов полиции, т. е. обыкновенным способом, каким разыскивают мелких воришек и жуликов?.. Знаете ли вы, сколько вообще унитариев в Буэнос-Айресе?
— Должно быть...
— Столько, что их хватило бы, чтобы повесить вас и всех федералов, если бы я не бодрствовал над вами и не исполнял, между прочим, и обязанностей начальника полиции!
— Превосходительнейший сеньор, я делаю все, что только в силах, для вашего спокойствия...
— Может быть, вы и делаете все, что в ваших силах, но не все, что нужно. Вы, вот, хотите искать унитария по всему городу, т. е., действительно, как булавку в копне сена, а между тем вам можно прямо пойти и схватить его без всяких розысков, потому что если вы еще не знаете его имени, то имеете полную возможность сейчас же узнать его.
— Я имею?!— воскликнул Викторика, все более и более смущаясь и делая над собой нечеловеческие усилия сохранить хладнокровие.
— Да, именно вы, сеньор.
— Право, ваше превосходительство, я не могу понять...
— Потому-то я и жалуюсь, что должен работать и за вас!.. От кого узнал Кордова о плане бегства гнусного унитария Пальмеро?
— От служанки.
— У кого в доме находится эта служанка?
— По словам доноса, в доме Пальмеро.
— В доме гнусного унитария Пальмеро, сеньор Викторика!
— Так точно, ваше превосходительство. Прошу извинения.
— С кем готовился эмигрировать человек, о котором идет речь?
— С гнусным унитарием Пальмеро и прочими его сообщниками.
— Что же, по-вашему, этот Пальмеро бегал по улицам с целью вербовать гнусных сообщников для побега?
— Нет, ваше превосходительство, этого я не предполагаю.
— Так, стало быть, все его сообщники были его друзьями?
— Да, по всей вероятности, так, — ответил дон Бернардо, начиная, наконец, понимать, куда метит Розас.
— А раз они были с ним дружны, то, конечно, бывали у него? — продолжал диктатор.
— Без всякого сомнения, ваше превосходительство.
— А как вы думаете, знает прислуга лиц, посещающих ее господ?
— Обязательно должна знать.
— Ведь иначе и быть не может?
— Конечно, ваше...
— Из этих друзей убиты вместе с Пальмеро Салазар, Маркес и Сандоваль. Спросите у прислуги имена всех тех, которые чаще других посещали Пальмеро, и тогда вы сами сообразите, кого из них нет между убитыми. Я думаю, это очень не трудно и, может быть, сделано без особенной траты времени и без необходимости поднимать на ноги весь штат ваших служащих. Разве не так?
— Светлый, проницательный ум вашего превосходительства вне сравнения... Я в точности последую вашему мудрому указанию.
— Лучше было бы, если бы вы могли обходиться без моих указаний. Мне никто не помогает и не указывает; я все должен делать и до всего додумываться сам лично, поэтому мне и приходится слишком много работать.
Сеньор Викторика невольно опустил глаза перед устремленным на него огненным, повелительным и вместе с тем презрительным взглядом Розаса.
— Так вы теперь знаете, что вам нужно делать? — снова раздался сухой и резкий голос диктатора.
— Знаю, ваше превосходительство.
— Более ничего особенного не происходило в эту ночь?
— Донна Каталина Куэто, вдова-портниха, приходила жаловаться, что Гаэтано избил бичом ее сына, прогуливавшегося верхом на площади Эль-Ретиро.
— Сын ее занимается чем-нибудь?
— Он студент математики.
— Чем объясняет Гаэтано свой поступок относительно него?
— Говорит, что он спрашивал у студента, почему тот не надел на свою лошадь федерального недоуздка. Студент — он еще мальчик, лет семнадцати, — ответил, что лошадь его и без всяких федеральных значков добрая федералка. Тогда Гаэтано и начал хлестать мальчика, пока тот не свалился с лошади.
— В нынешнее время самые опасные унитарии — именно эти молокососы, — задумчиво проговорил Розас.
— Я уже имел честь докладывать вашему превосходительству, что студенты и женщины неисправимы. Нет никакой возможности заставить студентов носить федеральные значки. Как только они завидят меня на улице, то тотчас же демонстративно вынимают значок из бутоньерки и кладут его в карман. Точно так же ничего не поделаешь с женщинами: не хотят носить значок на чепчиках, да и только! Одни старухи слушаются, а с молодыми нет никакого сладу. Не лучше ли было бы вашему превосходительству ввиду этого непослушания, воспретить ношение чепчиков.
— Они должны слушаться, должны, понимаете? — произнес Розас с ударением. — Пока еще не время применять одну меру, которая вам еще и в голову не приходила. Гаэтано сделал хорошо. Пошлите сказать той портнихе, чтобы она более не жаловалась и благодарила Бога, что сын ее за свое вольнодумство отделался так дешево... Есть еще что-нибудь?
Более ничего, превосходительный сеньор. Ах, да! Я получил от троих благонадежных федералистов прошение, в котором они ходатайствуют о разрешении им устроить лотерею по случаю майских празднеств.
— Пусть устраивают, но под наблюдением полиции.
— Быть может, вашему превосходительству угодно будет приказать сделать какие-нибудь особенные приготовления к майским торжествам?
— Разрешите устройство на площади деревянных лошадок и мачту для лазанья.
— Более ничего?
— Перестаньте предлагать мне такие глупые вопросы!.. Разве вы не знаете, что двадцать пятое мая — празднество унитариев?.. Положим, вы испанец и...
— Не имеете ли ваше превосходительство еще каких-нибудь приказаний на сегодня?
— Нет. Можете уходить.
— Сегодня же утром исполню все, что ваше превосходительство изволили приказывать насчет служанки.
— Я ничего вам не приказывал, я только дал вам урок.
— Благодарю ваше превосходительство, и...
— Не за что.
Викторика почтительно раскланялся с отцом и дочерью и оставил эту комнату, в которой он, подобно всем, имевшим в нее доступ, отдал свою дань унижения, страха и низкопоклонничества, не зная даже, удалось ему угодить Розасу или же он только раздражил его. Эта неизвестность, в которой систематически держал диктатор своих приближенных, была в высшей степени мучительна, но Розас находил нужным поступать так, чтобы они не знали, доволен он ими или нет; он был убежден, что если выказывать им постоянное неудовольствие, то они от страха разбегутся от него, а если всегда хвалить — они зазнаются и сделаются чересчур фамильярными с ним.
ТИГР И ЛИСИЦА
После ухода начальника полиции наступило продолжительное молчание; отец и дочь сидели молча, потому что каждый был погружен в свои размышления, а мулат молчал по той уважительной причине, что крепко спал, раскинув руки на столе и уткнувшись в них носом.
— Иди спать, — проговорил, наконец, Розас, обращаясь к дочери.
— Мне не хочется спать, татита.
— Все равно. Уже поздно.
— Но вы остаетесь один.
— Я никогда не бываю один. Сейчас должен приехать Спринг. Я не хочу, чтобы он тратил время на комплименты тебе. Уходи.
— Хорошо, татита. Позовите меня, если вам понадобится что-нибудь.
Поднявшись и поцеловав у отца руку, донна Мануэла взяла одну из стоявших на столе свечей и удалилась во внутренние покои.
Диктатор тоже встал и с заложенными за спину руками начал ходить из угла в угол по столовой.
Минут через десять до его чуткого уха донесся звонкий стук копыт быстро приближавшихся к дому лошадей.
Розас в это время стоял возле мулата. Убедившись, что лошади остановились перед крыльцом его дома, он дал бедняге такой подзатыльник, что тот, наверное, расквасил бы себе свой крохотный тупой нос об стол, если бы не подложенные руки.
— Ай! — взвизгнул несчастный мулат, в испуге вскакивая и не будучи в состоянии сразу сообразить, что с ним случилось, хотя ему пора было бы привыкнуть к подобным сюрпризам в доме Розаса.
— Что с вами, ваше преподобие? — спокойно проговорил диктатор. — Я только нашел нужным разбудить вас, потому что опять являются гости. Потрудитесь сесть рядом с человеком, который сейчас пожалует сюда, и обнимите его, когда он поднимется, чтобы уйти.
Мулат с секунду пытливо смотрел в бесстрастное лицо Розаса, затем с плохо скрытым неудовольствием кивнул головой.
Розас сел на свое прежнее место.
Явился Корвалан.
— Англичанин приехал? — спросил Розас, не дав старику разинуть рот для доклада.
— Приехал, ваше превосходительство.
— Что он делал, когда вы явились к нему?
— Собирался лечь спать.
— Он не заставил вас ждать?
— Нет, ваше превосходительство.
— Что же этот... еретик очень удивился?
— Кажется, да...
— Кажется! На кой же черт у вас во лбу имеются глаза, если вам только кажется, а не видится наверняка!.. Расспрашивал он вас о чем-нибудь?
— Нет. Как только я выразил ему желание вашего превосходительства, он позвонил и приказал оседлать ему лошадь.
— Ну, пусть он войдет.
Новая личность, которую мы готовимся представить читателям, принадлежала к числу тех узкоэгоистичных представителей британской политики, какие встречаются во всех странах мира; но, по недобросовестному отношению к своим обязанностям и по отсутствию всякого человеческого достоинства, эта личность могла занимать свой высокий и ответственный пост именно только в обществе, управляемом каким-нибудь Розасом, т. е. исключительно только в Буэнос-Айресе и то лишь в описываемую нами эпоху.
Сэр Вальтер Спринг, британский уполномоченный при аргентинском правительстве, сумел добиться от Розаса того, в чем последний упорно отказывал его предшественнику, сэру Гамильтону, то есть заключения договора относительно уничтожения рабства, и этот успех расположил английского представителя в пользу диктатора. Первоначальное чувство симпатии Спринга к этому страшному человеку понемногу превратилось в безграничную преданность.
Розас со своей стороны вполне доверял сэру Вальтеру Спрингу, другими словами, диктатор убедился в том, что Спринг, как и все люди, лично знавшие характер Розаса, очарован внушаемым им страхом. Когда Розасу являлось желание повернуть кверху дном всю европейскую политику, он знал, что сэр Вальтер будет послушным орудием в его руках, и рассчитывал на него так же, как на кинжалы своих масгорковцев, когда ему нужно было принести кого-нибудь в жертву своему ненасытному честолюбию.
Сэр Вальтер Спринг был человеком лет шестидесяти, маленький, худенький, с широким лысым лбом, породистым лицом и маленькими голубыми, очень умными и проницательными глазами. Обыкновенно он был бледен, но в тот момент, когда он входил к Розасу, его лицо и веки глаз были красны.
Черный костюм его отличался строгим вкусом и полной корректностью.
— Пожалуйте, сеньор Спринг, — произнес Розас, вставая, но не двигаясь с места, когда увидал появившегося в дверях англичанина.
— Честь имею явиться по вашему приглашению, ваше превосходительство, — ответил сэр Вальтер, вежливо, но сдержанно поклонившись и подходя к Розасу, чтобы подать ему руку.
— Извините, что я побеспокоил вас, сеньор Спринг, — продолжал диктатор мягким, вкрадчивым голосом, красивым жестом руки указывая ему на место возле себя.
— Побеспокоили? О, нет, сеньор генерал! Ваше превосходительство, напротив, всегда доставляете мне величайшее удовольствие, когда приглашаете меня к себе... Как здоровье сеньориты Мануэлиты?
— Слава Богу.
— Я боялся, что она нездорова.
— Почему?
— Потому что не вижу ее здесь, где она обыкновенно всегда находится в это время.
— Это верно, но сегодня, в виде исключения, ее нет здесь.
— Разве я не буду иметь счастье видеть ее сегодня?
— Нет. Она только что ушла к себе.
— О, как я несчастлив, что опоздал!
— Она, наверное, тоже будет очень огорчена, что не увидит вас.
— О, я знаю, что она самая очаровательная и любезная из всех аргентинок!
— Она, по крайней мере, старается заслужить репутацию любезной.
— И вполне в этом успевает.
— Благодарю вас от ее имени за ваше доброе мнение о ней... Кажется, этот вечер принадлежал к числу приятных для вас?
— Почему ваше превосходительство так полагает?
— Потому что вы провели его очень весело у себя.
— Ваше превосходительство правы... только с известным ограничением.
— Как так?
— У меня в доме, действительно, было весело, но сам я не веселился. Я могу быть веселым только тогда, когда имею счастье видеть кого-нибудь из семейства вашего превосходительства.
— Вы чересчур любезны, сеньор Спринг, — сказал Розас с такой тонкой, едва уловимой насмешливой улыбкой, что никто не понял бы ее, кроме сэра Вальтера, давно уже в точности изучившего как малейшую игру физиономии, так и оттенки голоса диктатора.
— Если позволите, — продолжал Розас, — мы теперь отбросим в сторону комплименты и поговорим об одном крайне важном деле.
— Ничто не может доставить мне такое удовольствие, как возможность доказать вашему превосходительству свою всегдашнюю готовность подчиниться вашим желаниям — поспешил заявить ловкий дипломат, придвигаясь ближе к столу и машинально разглаживая правой рукой, украшенной крупным бриллиантом, роскошное кружевное жабо своей снежно-белой сорочки из тончайшего батиста.
— Когда вы думаете отправить пакет? — начал Розас, придвинув к себе свободный стул и облокотившись на него скрещенными руками.
— В посольство? Думаю отправить завтра, — ответил сэр Вальтер. — Но если вашему превосходительству угодно, я могу повременить.
— Да, я желал бы этого.
— В таком случае я прикажу задержать пакет, пока вы не приготовите свои депеши, высокоуважаемый сеньор.
— Что касается этого, то мои депеши уже готовы со вчерашнего дня.
— Позволено ли мне будет предложить вашему превосходительству один вопрос?
— Сколько вам угодно.
— Могу я узнать причину, по которой вы желаете задержку пакета, раз ваши депеши готовы?
— Причина очень простая, сеньор Спринг.
— Быть может, ваше превосходительство намереваетесь послать министерский пакет?
— И не думаю.
— В таком случае я не понимаю...
— Мои депеши готовы, но не готовы ваши.
— Мои?!— с удивлением вскричал Спринг.
— Да. Вы слышали, что я сказал?
— Слышал, но не понял. Я, кажется, уже имел честь сообщить вашему превосходительству, что мои депеши написаны и даже запечатаны. Я жду только еще нескольких частных писем, чтобы вложить их в пакет, как это всегда делается.
— Ах, я говорю вовсе не о письмах!
— Не угодно ли будет вашему превосходительству объясниться?..
— Мне кажется, ваша обязанность состоит между прочим в том, чтобы извещать свое правительство о положении дела Рио-де-ла-Платы в момент отправления пакетбота в Европу, не так ли?
— Совершенно верно, высокоуважаемый сеньор.
— Этой обязанности вы на этот раз не выполнили, потому что не сообщили некоторых фактов.
— Я доношу своему правительству о публичных происшествиях и общих делах Аргентинской республики, но не о делах внутренней политики аргентинского кабинета, которые мне совершенно неизвестны.
— Это все верно. Но знаете ли вы, сеньор Спринг, чего стоят «общие» дела?
— Чего они стоят? — медленно растягивая слова повторил посланник, желая выиграть время, чтобы сообразить, что скрывается за этим вопросом и не дать неловкого ответа.
Этим вопросом Розас поставил себя в свою любимую позицию, на которой он поражал своих противников неожиданными ударами из-за угла. Равного ему в умении сбивать обходными фразами с толку своих собеседников не было, поэтому он всегда выходил победителем в словесных состязаниях.
— Да, сеньор, какую цену могут иметь для правительства сведения о публичных делах и об общих вопросах в какой-либо стране?
— Очень большую...
— Ровно никакой!
— О ваше...
— Ровно никакой. Вы, европейцы, большие охотники нагромождать груды поверхностных фактов, когда желаете показать, будто проникли в суть, которая между тем совершенно недоступна вашим взглядам. А так как вы на этих шатких данных основываете свои действия, то и выходит, что вы постоянно ошибаетесь.
— Ваше превосходительство желает сказать...
— Я хочу сказать, сеньор посланник, что вы обыкновенно говорите о том, чего не понимаете, в особенности, когда дело идет о моей стране.
— Иностранный посланник, действительно, не может знать всех тонкостей политики, в которой сам лично не участвует.
— Тогда ему и не следует доносить своему правительству о том, чего он не знает. Если же он желает давать верные сведения, то он должен сойтись с руководителем политики той страны, в которой находится, слушать его и поучиться у него.
— Я, кажется, так всегда и делаю.
— Нет, не всегда.
— Это уж не по своей вине.
— Может быть!.. Ну, скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы действительное состояние дела в настоящую минуту? Или лучше скажите мне, каким духом проникнуты депеши, которые вы посылаете к своему правительству о положении дел моего правительства?
— Каким духом?
— Ну, да... Или, говоря еще яснее, каким представляете вы в своих донесениях мое положение? Предвозвещаете вы мою победу или торжество анархии?
— О, сеньор генерал!..
— Это не ответ!
— Я знаю, но...
— Так как же?
— Относительно чего, сеньор генерал?
— Относительно того, что я говорю.
— То есть относительно настоящего положения правительства вашего превосходительства?
— Ну да.
— Мне кажется...
— Говорите откровенно.
— Мне кажется, все говорит в пользу торжества вашего превосходительства.
— Ваше мнение на чем-нибудь основано?
— Разумеется.
— На чем это именно, сеньор посол?
— На власти и могуществе вашего превосходительства.
— Гм!.. Плохое основание!
— Как плохое, сеньор генерал?
— Власть и могущество не у одного у меня в руках; их не мало и у анархистов. Разве вам это неизвестно?
— Помилуйте, сеньор...
— Имеете ли вы понятие о том, что делается у Лаваля в Энтре Риос?
— Знаю, ваше превосходительство; он лишен всякой возможности действовать после баталии Кристобаля, в которой армия конфедерации одержала полную победу.
— А между тем, генерал Эшепо теперь бездействует за недостатком лошадей.
— Это верно, но вашему превосходительству не трудно снабдить его лошадьми.
— А положение Корриентеса вам известно?
— Я думаю, Корриентес возвратится к федеральной лиге, как только окончательно будет разбит Лаваль.
— Однако пока что Корриентес тоже восстал против своего правительства. Вот вам уже две бунтующие провинции.
— Ну, две, а ведь...
— Что такое?
— Ведь конфедерация состоит из четырнадцати провинций.
— Их, нет!
— Как нет, ваше превосходительство?!
— Конечно. Разве можно считать те провинции, которые стали на сторону унитариев?
— По моему мнению, движение этих провинций ровно ничего не значит.
— Вот и выходит, что вы ровно ничего не знаете, что делается у меня, сеньор посланник!
— Вы так изволите думать.
— Я всегда думаю только то, в чем уверен. Тукуман, Сальта, Риоха, Катамарка и Жужуй — все это провинции, имеющие очень важное значение, и их движение, которое, по вашему мнению, ровно ничего не значит, на деле очень опасно: это настоящая революция, руководимая множеством людей и поддерживаемая крупными средствами.
— Если все, что вы изволили сказать, верно, то я могу только прибавить, что это чрезвычайно грустно.
— В верности того, что я говорю, можете никогда не сомневаться... Тукуман, Сальта и Жужуй угрожают мне на севере до границы Боливии; Катамарка и Риоха — на западе до половины Кордильеров; Корриентес и Энтре Риос — с поморья, а затем еще... Угадайте, сеньор министр, что может быть еще.
— Право, не знаю...
— Нет, это-то вы знаете, только не хотите сказать, потому что не решаетесь называть при мне моих врагов. Так я сам скажу: кроме всего перечисленного мной, мне уже угрожает Ривера.
— Пустяки!
— У вас все пустяки, как я вижу. С Риверой шутки плохи, у него в Уругвае целая армия.
— Которая дальше и не пойдет.
— Может быть, но вернее всего, что пойдет... Видите, я со всех сторон окружен врагами, возбуждаемыми, поощряемыми и протежируемыми Францией.
— Да, действительно, положение серьезное, — опять медленно протянул сэр Вальтер, недоумевая, куда именно метит Розас, открывая ему все свои слабые стороны.
Насколько английский посланник знал своего умного, смелого и пронырливого собеседника, этот его маневр скрывал какую-нибудь очень важную цель, угадать которую, однако, не было никакой возможности.
— Крайне серьезное, — подчеркнул Розас с таким хладнокровием, что бедный посланник совсем растерялся, чувствуя, что сейчас наступит момент, когда он узнает, попал в ловушку или нет. — Теперь, когда вы убедились, в какой я нахожусь опасности, — продолжал Розас, — скажите мне прямо: на чем вы основываете выражаемую вами в ваших донесениях британскому правительству надежду на мою победу над унитариями?
— Опять-таки на могуществе, престиже и популярности, которыми ваше превосходительство обязаны своей славе и...
— Да? — со смехом произнес диктатор, скользнув по своему собеседнику взглядом, яснее слов говорившем: «Какой ты, однако, жалкий дурак в сравнении со мной!»
— Не понимаю, чем я подал вашему превосходительству повод смеяться надо мной, — сказал сэр Вальтер, сильно раздосадованный, что его лесть, быть может, служившая выражением его искреннего мнения о Розасе, так дурно принята.
— Всем, сеньор европейский дипломат, всем, — с язвительной иронией ответил Розас.
— Но, сеньор...
— Выслушайте меня, сеньор Спринг. Все, что вы мне сейчас сообщили, было бы как нельзя более уместно в нашей печати и в беседе с народом,но никак не в донесении к лорду Пальмерстону, который по справедливости считается умнейшим человеком во всей Европе.
— Почему же, осмелюсь спросить ваше превосходительство?
— Сейчас я разъясню вам... Я указал вам все опасности, угрожающие в настоящее время моему правительству, т. е. миру и порядку в аргентинской конфедерации. Да?
— Да, ваше превосходительство.
— А знаете ли вы причину, побудившую меня войти перед вами в эти подробности?.. О, конечно, нет. Моя откровенность только поставила вас в тупик и так смутила, что вы даже не были в состоянии понять ее. Ну, я объясню вам и эту загадку. Я пустился в такие откровенности, потому что знаю, что наше свидание окончится новым отчетом, который вы сейчас же отправите своему правительству, а это-то именно мне и нужно.
— Это вам нужно?! — с крайним изумлением повторил сэр Вальтер Спринг, даже подскочив на месте, не будучи более в силах скрыть полной несостоятельности перед насмешливо улыбавшимся Розасом.
— Да, именно это, — подтвердил последний. — Я желаю, чтоб английское правительство знало о моем шатком положении от меня самого раньше, чем ему могут сообщить об этом мои враги, или по крайней мере, одновременно... Поняли теперь мою мысль? Какая мне польза скрывать от вашего правительства то, что не может быть скрыто и что оно все равно узнает через других? Вообще скрывают что-нибудь только из боязни, а я ничего не боюсь.
— Потому-то я и говорил вашему превосходительству, что с вашей властью...
— Оставьте, пожалуйста, мою власть в стороне, сеньор Спринг.
— Но если ваше превосходительство не имеете власти...
— Я имею ее, сеньор, — снова резко оборвал диктатор.
Тут уж сэр Вальтер, совершенно отчаявшись и на этот раз понять маневры своего собеседника, только и мог пробормотать:
— В таком случае, в чем же дело?
— В чем дело? Значит, опять нужны разъяснения? Согласитесь хоть с тем, что иметь власть и рассчитывать на эту власть, чтобы выйти из затруднительного положения — две вещи, ничего общего между собой не имеющие. Как вы полагаете, знает лорд Пальмерстон правила сложения и вычитания? Так неужели же вы воображаете, что он будет верить в возможность моего торжества над унитариями, если подсчитает число врагов аргентинской федерации и суммы, которыми они располагают, благодаря поддержке Франции? Разумеется, не поверит, если вы далее станете доказывать ему, что и у меня еще есть сила и власть. Дальше. Не можете же вы серьезно думать, чтобы у него осталась хоть малейшая охота поддерживать правительство, которое, по всей вероятности, просуществует не более нескольких месяцев, а то и недель? Предположим даже, что он и захотел бы оказать мне помощь против моих врагов, опирающихся на Францию, то не сделает это уже по одному тому, что тогда ему пришлось бы ссориться с Францией... Да, сеньор Спринг, я и раньше никогда не возлагал особенных надежд на помощь британского правительства в своей борьбе с Францией, а теперь, когда узнал, что это правительство получает от вас донесения, в которых вы фантазируете о моей власти, и совсем ни на что хорошее со стороны лорда Пальмерстона не рассчитываю.
— Но, сеньор генерал, чем же вы думаете победить унитариев, если не своей властью, не своими армиями и федералами? — спросил Спринг, тщетно стараясь добраться до настоящих мыслей Розаса, скрытых в напускаемом им тумане темных, загадочных и противоречивых фраз.
— Нет, сеньор посланник, я рассчитываю победить своих врагов или, верней, врагов федерации, при помощи их же самих, — спокойно выговорил Розас, устремляя инквизиторский взгляд на лицо посланника, чтобы узнать, какое впечатление произвело на последнего поднятие уголка таинственной завесы его загадочной диалектики.
— А!— воскликнул сэр Вальтер, вытаращив изумленные глаза, между тем как ум его, озаренный последней фразой Розаса, вдруг проник в ту глубину недомолвок, намеков и парадоксов, которые за минуту еще были для него совершенно темны, несмотря на всю его обычную проницательность, на знание дипломатических уловок и, наконец, даже на то, что он порядочно изучил характер и манеры диктатора.
— Да, унитарии должны быть побеждены при помощи их самих, — продолжал Розас. — Именно они и составляют мою главную армию, мою власть, мое неодолимое, наиболее опасное для моих противников могущество.
— Действительно, ваше превосходительство, вы открываете передо мной совершенно новый горизонт, существования которого я, признаюсь, даже и не подозревал! — откровенно сознался Спринг.
— Я это знал, — холодно сказал Розас, никогда не упускавший случая дать заметить другим их ошибки или неведение. — Унитариям недостает, — продолжал он, — да и всегда будет недоставать именно того, без чего у них никогда не может быть настоящей силы и могущества, несмотря на то, что их много и что у них хорошая поддержка. Между ними есть очень способные люди, они имеют на своей стороне лучших солдат республики, но у них нет общего центра; у них все приказывают, но никто не желает исполнять приказаний; они все стремятся к одной цели, но идут разными путями, поэтому никогда и не достигнут ее. Феррэ не повинуется Лавалю, потому что он губернатор провинции; Лаваль не повинуется Феррэ, потому что он генерал унитариев, или генерал-освободитель, как его называют. Лаваль нуждается в помощи Риверы, так как Ривера превосходно знает наш способ ведения войны, но Лаваль из самолюбия воображает, что обойдется и без него, а поэтому презирает Риверу. Последнему тоже нужно бы сообразовать свои действия с действиями Лаваля, потому что Лаваль начальник края, но он презирает его за то, что он не испанец. Люди пера, кабинетные ученые, как они себя называют, дают Лавалю советы; Лаваль и желал бы следовать их советам, но люди оружия, окружающие его, мешают ему в этом, потому что презирают тех, которые не принадлежат к армии. Лаваль, не умеющий заставлять повиноваться себе, слушает, что кричат его подчиненные, и, чтобы не вызывать их неудовольствия, ставит их в оппозицию к самой интеллигентной части своей партии. Все новые унитарии провинций заражены той же болезнью, той же манией величия; каждый из них, лишь только успеет провозгласить себя унитарием, уже мнит, что он министр, губернатор, начальник, но никто не желает быть ни солдатом, ни чиновником, ни простым гражданином... Так вот, видите, сеньор посланник ее величества королевы английской, когда имеешь дело с подобными врагами, нужно дать им время взаимно истребить друг друга. Это-то именно я и хочу сделать.
— Да, это превосходный план! — с неподдельным восхищением воскликнул сэр Вальтер, слушавший эту характеристику с громадным удовольствием.
— Позвольте, я еще не кончил, — флегматично проговорил диктатор. — Когда имеешь врагов, хотел я добавить, то оцениваешь их не по числу, а по достоинству каждой их части, каждой группы, каждого человека. Сравнивая эти части со своей собственной, так сказать, кооперацией, крепко сплоченной, в которой приказывает только один, а все остальные безусловно ему подчиняются, как руки голове, — невольно приходишь к заключению, что при столкновении тех отдельных частей с этим сплошным целым обязательно должно восторжествовать целое, хотя бы оно и казалось по своей массе меньше и слабее всех тех групп, вместе взятых... Теперь, надеюсь, вы поняли, как следует оценивать положение мое и моих противников?
Этот оригинальный план борьбы с врагами, развернутый Розасом, был результатом его глубокого изучения и знания как врагов, так и вообще людей. Именно это знание, приобретенное им в течение долгих лет публичной деятельности, и было в его руках тем страшным оружием, которое придавало ему такую власть и внушало такой страх.
— О, теперь я понял, все понял, ваше превосходительство, — сказал сэр Вальтер, потирая свои белые руки с радостью человека, благополучно выбравшегося из самого запутанного лабиринта. — Я переделаю свои депеши и позабочусь, чтобы лорд Пальмерстон узнал положение дел Аргентинской республики именно с той точки зрения, на которую изволили мне указать ваше превосходительство.
— Делайте, как вам угодно. Я желаю только одного, чтобы вы сообщали своему правительству одну правду, — проговорил диктатор с таким неестественным равнодушием, что беспристрастный наблюдатель понял бы, что именно теперь начинается самая суть дела.
— О, за мной дело не станет! — воскликнул посланник. — Но нужно и вам самим объявить это...
— Зачем?
— Разве вашему превосходительству не желательно заручиться помощью Англии?
— Что же она может сделать для меня?
— Она может, например, заставить Францию прекратить свое вмешательство в...
— Вы, кажется, уже предлагали мне такого рода посредничество Англии в самом начале наших неурядиц.
— Предлагал, ваше превосходительство, но...
— Но не проходило ли с тех пор все время только в том, что вы ожидали по этому поводу инструкций и не получали их?
— Да, это верно, сеньор генерал, но я убежден, что при первом же слове Англии, французский король пришлет уполномоченного для улаживания этого грустного недоразумения между французской колонией и вашим превосходительством.
— А ради чего он это сделает?
— Ради того, что положение Франции в настоящее время очень трудно. В Алжире война разгорелась с новой силой, так как Абдель-Кадер принялся за дело чрезвычайно энергично. В восточном вопросе Франции противостоят четыре великих державы, вмешавшиеся в распрю между турецким султаном и египетским пашой. Сейчас пятнадцать кораблей, четыре фрегата и несколько мелких судов отправлены французским правительством в Дарданеллы. Если Франция не откажется от своих претензий, или если Россия захочет защищать Константинополь, то Франции в скором времени придется выслать в Дарданеллы все свои морские силы. Внутреннее состояние Франции тоже далеко не из спокойных: попытка Страсбурга подняла на ноги всех бонапартистов и старые партии поднимают парламентерское знамя; министерство Сульта, если еще не свергнуто, то с часу на час может ожидать катастрофы; оппозиция работает изо всех сил, чтобы сделать президентом совета одного из своих влиятельных членов. При подобных условиях Франции необходимо укрепить более прежнего свой союз с Англией, а потому французское правительство не захочет из-за такого пустяка, как ла-платское дело, ссориться с английским и уступить ему при первом же изъявлении его неудовольствия.
— Ну, это дело ваше, для меня оно совершенно безразлично, сеньор посланник. Константинополь и Алжир меня нисколько не интересуют. А что касается блокады, то вы знаете, она вредит кое-кому гораздо больше, чем мне, — заметил Розас.
— Знаю, знаю, сеньор генерал, — с живостью ответил Спринг: — последствия продолжения блокады Ла-Платы ложатся всей своей тяжестью на английскую торговлю.
— А известно вам, какой английский капитал заключен в Буэнос-Айресе и почему французская эскадра держит ее тут взаперти?
— Знаю. Два миллиона ливров в местных съестных припасах, портящихся с каждым днем.
— А сколько приходится тратить ежемесячно для возможного сохранения этих припасов?
— Двадцать пять тысяч ливров, ваше превосходительство.
— Совершенно верно, сеньор Спринг.
— Я уже сообщал обо всем этом своему правительству.
— Знаете вы также, на какую сумму приостановлено британских мануфактурных изделий в Монтевидео?
— На миллион ливров, я и на это указал лорду Пальмерстону.
— Стало быть, вам нравятся такие потери, раз вы знаете о них, — проговорил с улыбкой Розас. — Впрочем, это дело ваше. О вкусах не спорят... Если вы довольны этими результатами блокады, то мне только остается радоваться за вас, а сам я уже сумею от нее избавиться.
— Мне давно известно, что ваше превосходительство все можете сделать и никогда ни перед чем не растеряетесь, — с льстивой улыбкой заметил сэр Вальтер.
— Ну, положим, не все, сеньор посланник, — возразил Розас, откидываясь на спинку кресла и снова пронизывая англичанина до дна его души своим острым взглядом, — далеко не все. Например, когда посланник иностранного государства укрывает в своем доме унитария, преследуемого правосудием, я не могу рассчитывать, чтобы этот посланник пришел ко мне, откровенно рассказал об этом и попросил для своего протеже милости, в которой я никогда не отказал бы ему.
— Разве, что-нибудь подобное случилось?.. Какой же посланник мог решиться на такую дерзость? Соблаговолите сказать, ваше превосходительство, на кого вы намекаете? — проговорил сэр Вальтер с видимым изумлением.
— А вы сами его не знаете, сеньор Спринг? — инквизиторским тоном продолжал Розас.
— Даю вашему превосходительству честное слово...
— Довольно! — резко перебил диктатор, сразу поняв, что ошибся, и цель, ради которой он собственно призывал министра и употребил столько труда, не достигнута. — Довольно! — повторил он, вставая, чтобы скрыть бешенство, исказившее его лицо.
Сэр Вальтер опять смутился, охваченный новым притоком недоумения в виду странного, трудно объяснимого поведения Розаса.
Последний прошелся несколько раз взад-вперед по столовой, затем вдруг остановился, как вкопанный, положив руку на спинку стула, на котором бедный мулат тщетно боролся с дремотой, и стал напряженно к чему-то прислушиваться.
По улице неслась во весь опор лошадь и вскоре остановилась перед домом диктатора.
— Какая-нибудь депеша из полиции, — заметил англичанин, пользуясь случаем вновь завязать беседу, так круто оборванную Розасом.
— Ошибаетесь, сеньор, — сухо возразил диктатор, — эта лошадь из предместья и всадник ее простой гаучо, а не полицейский комиссар, который загнал бы ее так, что она упала бы перед моим домом.
Спринг молча пожал плечами и встал со своего места.
В столовую вошел Корвалан с пакетом в руках.
Розас схватил пакет, поспешно разорвал конверт, развернул письмо и пробежал его глазами. После первых строк, лицо диктатора исказилось такой дикой злобой, что сэр Вальтер, видевший это, не решался верить своим глазам.
— Вы удаляетесь, сеньор Спринг? — произнес не своим голосом Розас, прерывая чтение и протягивая руку.
— Да, я не хочу мешать вашему превосходительству.
— Когда намерены вы отправить пакетбот?
— Послезавтра, сеньор генерал.
— Это очень долго. Заставьте своего секретаря поработать так, чтобы пакетбот мог отплыть завтра после полудня... вернее говоря — сегодня, потому что уже четыре часа утра.
— Хорошо, пакетбот отправится сегодня в шесть часов вечера, ваше превосходительство.
— Очень благодарен. Покойной ночи, сеньор Спринг, — произнес диктатор, слегка наклоняя голову.
Отвесив несколько поклонов, посланник удалился.
— Корвалан, проводите сеньора Спринга! — приказал диктатор.
— Сеньор! Что это вы приказали сделать с еретиком? — закричал мулат, очнувшись от своей дремоты. Ему показалось, что английского посланника повели на казнь.
Но Розасу было не до разговоров, сев на свое место, он положил перед собой на стол письмо, подпер руками голову и стал внимательно перечитывать его, вдумываясь в каждое слово. По мере того, как он читал, глаза его наливались кровью, на лбу напрягались жилы, а лицо, попеременно, то бледнело, то краснело.
Немного спустя, он грубо выгнал мулата, заперся в своем кабинете и принялся шагать от одной двери к другой. Он скрежетал зубами, потрясал кулаками, топал ногами, проявляя порывы самого необузданного бешенства.
ДОННА МАРСЕЛИНА
Утро пятого мая было ясное, и свежий ветерок, пропитанный запахом фиалок и жасмина, в изобилии росших на песчаных равнинах Барракаса, разгонял густой и сырой ночной туман.
В течение всего апреля шли проливные дожди, как будто сама природа хотела способствовать невзгодам, обрушивавшимся на аргентинский народ, и пятое мая было первым хорошим днем за длинным периодом ненастья.
В городе все еще было тихо, хотя ослепительно-яркие солнечные лучи давно уже заливали его. Аристократический Буэнос-Айрес, по справедливости прозванный Афинами Южной Америки, еще спал, точно желая как можно дальше отодвинуть от себя заботы дня.
В глубине его широких и прямых улиц, под навесами зданий, кое-где еще виднелись последние тени, но вскоре перед победоносно наступавшим на них ярким дневным светом должны были исчезнуть и они.
По бирюзовому небу плыли легкие перламутровые и золотистые с розовыми краями облачка, отражавшиеся в зеркальной поверхности Ла-Платы.
Но вот послышался глухой, монотонный стук тележек пригородных поставщиков, привозивших продукты на рынок, начали открываться лавки, зашмыгала прислуга вперемежку с другим мелким людом: город просыпался и приступал к своей обычной деятельности.
Из одного дома на улице Виктории вышел высокий, худой и желтый человек лет пятидесяти и направился к рынку, тяжело опираясь на толстую палку, без которой, казалось, он не мог сделать ни шагу.
Он двигался медленно, с видом человека, вышедшего только подышать свежим утренним воздухом, полюбоваться на давно уже не виданное ясное небо и, кстати, показать свой новый ярко-красный жилет и свои федеральные значки, красовавшиеся у него на груди и на шляпе.
Руки этого человека, очевидно, были очень слабы, потому что он то и дело ронял свою индийскую трость с набалдашником из слоновой кости, которая каждый раз откатывалась назад, так что ему нужно было постоянно оборачиваться, чтобы поднять ее, причем он быстро оглядывал все пройденное им пространство.
С чисто ангельским терпением, подобрав чуть не в тридцатый раз злополучную трость, выскользавшую из его дрожащей руки, старик остановился перед домом дона Мигеля дель Кампо.
На минуту старик в изнеможении прислонился к стене дома, вытащил из кармана платок и начал отирать им свои ввалившиеся щеки и лоб, все время не переставая зорко оглядываться по сторонам. Дав пройти двум разносчикам и женщине с пустой корзиной в руках, он подошел к двери дома и, не воспользовавшись великолепным бронзовым молотком в виде львиной головы, осторожно стукнул в дверь три раза тростью.
Между тем хозяин дома, дон Мигель, уже встал и одевался с помощью своего верного Тонилло, успевшего выполнить все поручения, данные ему ночью его господином.
— Донна Аврора сама приняла от тебя цветы? — спрашивал дон Мигель, расчесывая свою темно-русую бородку, разделенную пополам на подбородке, согласно предписаниям федерации, старавшейся установить однообразие даже в наружности своих членов.
— Сама, сеньор, — отвечал Тонилло.
— А письмо?
— Письмо она тоже приняла вместе с цветами лично.
— А ты не заметил выражения ее лица: довольное оно было или нет?
— Кажется, довольное сеньор. Но письмо ее сильно удивило, и она спросила, что произошло.
— Бедняжка!.. Как она была одета? Говори мне все... Что она делала, когда ты явился к ней?
— Сеньорита стояла во дворе перед жасминовым боскетом и разворачивала свои папильотки...
— О милая кокетка! Ну, а потом?
— Потом... да больше ничего, сеньор.
— Как ничего! А в чем она была одета? Я же тебя именно об этом и спрашиваю.
— В белом с зелеными полосками пеньюаре, накинутом на плечи.
— А!.. Ну, теперь я ясно могу себе представить ее и счастлив на весь день... Она восхитительна в белом! А потом что?
— Более ничего, сеньор.
— Ты дурак, Тонилло!
— Но, сеньор, на донне Авроре, право, более ни чего не было.
— Этого быть не может. Ножки ее во что-нибудь были обуты... в туфельки или в ботинки? А на шее у нее, наверное, была какая-нибудь косыночка, ленточка или, вообще что-нибудь в роде этого, что обыкновенно надевается молодыми доннами. Ты должен был все заметить: ведь ты знаешь, что я заставляю тебя передать мне в точности каждую подробность, касающуюся донны Авроры.
— Виноват, сеньор, я...
— Ну, хорошо, оставим это и перейдем к другому… Кого ты еще видел у нее в доме?
— Ее горничную и дона Кандидо.
— А! Моего учителя чистописания, доброго гения моих ученических тетрадей! Говорил ты с ним, Тонилло? Узнал, зачем он туда приходил?
— Говорил. Он сказал мне, что ему очень нужно было вас повидать и что он был здесь в шесть часов утра, но не достучался; потом он заходил в семь часов, но опять не мог достучаться. Теперь он ходит по окрестностям, выжидая, когда можно будет видеть вас.
— Черт возьми! Очевидно, он еще не бросил своей привычки мучить меня... Хотел поднять меня в шесть часов, чтобы поболтать! — Когда он опять придет, попроси его в кабинет, а донну Марселину можешь ввести сюда.
Сделав это распоряжение, дон Мигель надел синий шелковый халат, который очень шел к нему.
— Ввести ее сюда? — спросил Тонилло, боясь, что ослышался.
— Да, именно сюда, мой целомудренный дон Тонилло. Я кажется, говорю с тобой на понятном языке. Когда донна Марселина придет, смотри, чтобы и эта дверь была хорошо затворена, и дверь в кабинет... Да вот и она! Пойди, встреть ее, — добавил дон Мигель, услыхав шелест шелкового платья.
Через минуту в спальню вошла дама в зеленом шелковом платье и мериносовой желтой с черной каймой шали, спускавшейся до самых пят. На голове у нее был громадный красный бант, а в правой руке она осторожно держала кончиками пальцев белый батистовый платок с вышитыми на углах красными амурами.
Когда-то эта дама, наверное, была очень хороша, судя по ее большим черным глазам, даже теперь, несмотря на ее сорок восемь лет, не утратившим своего блеска, и по изящному профилю ее лица; но сильная седина в черных волосах, дряблость щек и полуввалившийся рот лишали ее всякой приятности.
В довершение всего этого, она была очень высока и слишком полна.
Дон Мигель принял свою гостью сидя и с той банальной улыбкой, которая свойственна аристократам в отношениях с людьми низшего происхождения.
— Вы мне нужны, донна Марселина, — проговорил молодой человек, указывая гостье на стул против себя.
— Я всегда к вашим услугам, дон Мигель, — слащавым голосом ответила дама, жеманно опускаясь на стул и расправляя складки своего широчайшего платья, шуршавшего при малейшем ее движении.
— Как ваше здоровье и что у вас дома? — осведомился дон Мигель, никогда не приступавший к серьезному разговору прежде, чем не узнает всего, что было на душе у его собеседника.
— Ах, сеньор, я совсем потеряла голову! — воскликнула донна Марселина, обрадовавшись возможности высказаться. — Я хотя и очень грешна, но жизнь в Буэнос-Айресе все-таки кажется мне чересчур тяжелым наказанием.
— Это будет вам зачтено на том свете, — сказал молодой человек, полируя свои ногти с совершенно равнодушным видом.
— Есть люди гораздо грешней меня, но они, наверное, попадут в рай без особенных мучений.
— Кто же именно эти люди, по вашему мнению?
— Да хоть бы те, которых вы знаете, сеньор.
— Я очень забывчив, донна Марселина, и положительно не в состоянии никого припомнить, к кому могли бы относиться ваши намеки.
— Ну, значит, мы с вами в этом не сходимся, сеньор дон Мигель; кое-чего я никогда не забуду, хотя бы прожила двести лет.
— Напрасно: ваша религия учит нас забывать все дурное и прощать нашим врагам.
— Прощать врагам! Это после всех оскорблений, которым они меня подвергли, загрязнив мою репутацию, смешав меня с существами, составляющими позор нашего пола, — нет, никогда! У меня в этом случае сердце Капулетти!
— Ах, донна Марселина, вы всегда преувеличиваете, когда речь заходит на эту тему! — проговорил молодой человек, делая над собой громадное усилие, чтобы не расхохотаться при таком странном сравнении своей собеседницы.
— Я? Преувеличиваю?! Ну, да, в ваших глазах, разумеется, ничего не значит, что меня посадили в тележку с недостойными женщинами и хотели отправить в исправительный приют, — меня, никогда никого не принимавшую у себя, кроме цвета буэнос-айресского общества!.. Я, впрочем, отлично знаю, что меня только для вида обвинили в дурном поведении и что это была только месть за мои всем известные политические убеждения. Я постоянно общалась с унитариями; у меня бывали министры, адвокаты, поэты, доктора, писатели, — словом, все выдающиеся люди нашего города. За это наш тиран и вписал мое имя в список женщин, подлежавших высылке из Буэнос-Айреса, по декрету негодяя Анчорены, этого старого Тартюфа, этого бессовестного ростовщика, на которого не даром написано известное вам четверостишие...
— Кстати сказать, прелестное, — вставил дон Мигель.
— Не правда ли?..
— Да, я сделалась жертвой этих грубых, невежественных головорезов исключительно за свои политические убеждения, а может быть, и за мою любовь к литературе. Я заметила, что этот дикарь, Анчорена, преследовал всех посвятивших себя, подобно мне, изящным искусствам. Все мои друзья были сосланы... О, как хорошо жилось нам при Вареласе и Галлардосе! Миновало это прекрасное времечко, исчезло навеки!.. Помните, дон Мигель, какое тогда было блаженство?! Разгорячившись, донна Марселина спустила с плеч свою шаль, отерла выступивший на ее красном лбу пот и грациозно обмахивалась платочком.
— Что было, то прошло, донна Марселина, — проговорил дон Мигель по возможности серьезным тоном, опустив вниз свои смеющиеся глаза. — Действительно, новое правительство поступило с вами крайне несправедливо...
— И бесчеловечно! — договорила посетительница.
— Но все-таки вам удалось избежать страшного позора, благодаря вашим крупным связям...
— Да, слава Богу, один из моих лучших друзей, занимающий высокое положение, сжалился надо мной. Он видел во мне только невинную жертву варварства, составляющего, по выражению Руссо, самое ужасное зло в мире и низводящего человечество до уровня животных! — с пафосом воскликнула донна Марселина, любившая щегольнуть своей начитанностью.
— Руссо совершенно прав, и мир должен быть ему глубоко признателен за то, что он внес эту новую и поучительную истину.
— О, да, Руссо — один из величайших гениев, и я знаю все его произведения наизусть!.. Вы не поверите, какая у меня память: недавно я видела две трагедии и сразу запомнила все их содержание!
— Это, действительно, замечательно!
— Не правда ли? Хотите, я продекламирую вам монолог Бидоны или Креона, начинающийся словами: «Грустная судьба...»
— Нет, благодарю вас, донна Марселина. Пожалуйста, не трудитесь, — с живостью перебил дон Мигель.
— Как угодно, — обиженно проговорила гостья.
— Что вы читаете в последнее время, донна Марселина?
— Кончаю «Дитя карнавала», после того, как прочитала «Люсинду», которую теперь читает моя племянница.
— Прекрасно!.. Кто это снабжает вас такими хорошими книгами? — спросил молодой человек, устремив на свою собеседницу спокойный и пристальный взор.
— Лично меня никто не снабжает ими. Это патер Гаэте приносит их моей племяннице.
— Патер Гаэте?! — повторил дон Мигель, разражаясь, наконец, долго сдерживаемым смехом.
— Да. Но что же тут смешного, сеньор дон Мигель? — недоумевала гостья. — Я ему очень признательназа это. Он человек просвещенный и говорит, что молодым девушкам следует читать все, как хорошее, так и дурное, чтобы раньше узнать жизнь и не попасть впоследствии впросак, как нередко случается с теми, которых держат в полном неведении.
— Против верности этого взгляда я ничего не могу возразить, донна Марселина; но чего я никак не могу понять, так это того, что вы, с вашими твердыми, непоколебимыми политическими убеждениями, дружны с этим, хотя и достойным священником, зато ярым федералистом.
— Я каждый день упрекаю его в этом грустном заблуждении...
— А он вам что на это говорит?
— Смеется, поворачивается ко мне спиной и уходит с Гертрудитой читать.
— Гертрудита? Это что еще за особа у вас?
— Это новая племянница, которую я с месяц тому назад взяла к себе в дом.
— Господи! Да у вас племянниц больше, чем было у Адама внуков от Сима, сына Каина и Ады!.. Читали вы когда-нибудь «Библию», донна Марселина, а?
— Нет, сеньор, не приходилось.
— Ну, а «Дон-Кихота», наверное, читали?
— Тоже нет.
— Жаль. Этот Дон-Кихот был славный малый, удивительно похожий лицом и умом на генерала Орибу. Он всегда говорил, что ни одно благоустроенное государство не может существовать без одного ремесла, т. е. именно того, которым вы занимаетесь.
— Разве мое покровительство бедным племянницам может быть названо ремеслом?
— У большинства людей удивительно извращенные понятия, донна Марселина.
— Это верно!.. Но не обращать же мне на это внимание, когда я сознаю, что не делаю ничего дурного, а, напротив, только благодетельствую бедным девочкам, для которых я служу единственным убежищем.
— Гм!.. А что будет с вами, донна Марселина, если уважаемый патер найдет у вас то, что нашел я, когда явился к вам в первый раз по рекомендации сеньора Дугласа?
— О, я тогда, конечно, погибну! Но ведь патер Гаэте не так любопытен, как дон Мигель дель Кампо, — проговорила гостья. —Мое любопытство было вызвано вами же, — оправдывался молодой человек. — Припомните-ка обстоятельства этого дела, донна Марселина. Я пришел к вам с целью написать письмо, которое вы должны были передать одной особе. Чтобы написать его, я попросил у вас бумаги, пера и чернил. В это время кто-то постучался к вам в дверь, и вы наскоро толкнули меня в свою спальню, говоря, что я там найду все необходимое для письма. На столе у вас ничего подходящего не оказалось, поэтому я открыл ящик и...
— И не должны были читать то, что там нашли, молодой повеса! — досказала донна Марселина медоточивым голосом, как она всегда делала, когда дон Мигель заводил беседу о своей находке, то есть при каждом их свидании.
— Как же было мне противостоять искушению, когда я вдруг совершенно неожиданно увидал там монтевидеоские журналы!
— Присланные мне моим сыном, как я уже много раз говорила вам.
— Да, ну, а письмо?
— Письмо?.. О, это злосчастное письмо! Из-за него меня бы расстреляли эти варвары!.. До сих пор я не могу простить себе этой неосторожности, едва было не стоившей мне жизни!.. Но скажите мне, пожалуйста, дон Мигель, что вы сделали с этим письмом? Сохранили вы его?
— Не понимаю, как вы осмелились написать, что лишь только Лаваль вступит в Буэнос-Айрес, то в тот же день всем женщинам семейства Розаса отрежут носы? — продолжал дон Мигель, будто не слыхав вопросов своей собеседницы.
— Что делать, увлеклась своим справедливым негодованием! В сущности, это были одни пустые слова, как вы и сами понимаете, дон Мигель... Ну, так как же, сохранили ли вы это письмо или уничтожили? — приставала донна Марселина, силясь изобразить на своем обрюзгшем лице что-то вроде улыбки.
— Я уже сказал вам, что взял тогда это письмо, чтобы спасти вас.
— Вы бы лучше разорвали его.
— Этим я сделал бы страшную глупость.
— Почему же?
— Потому что я тогда лишился бы возможности фактически засвидетельствовать ваш патриотизм в случау переворота. Я забочусь о том, чтобы ваши услуги, которые вы оказываете мне, были впоследствии достойно вознаграждены.
— Только с этой целью вы и бережете письмо?
— До сих пор вы не давали мне повода беречь его для какой-нибудь другой цели, — отвечал дон Мигель, подчеркивая каждое слово.
— Поверьте, дон Мигель, что я никогда не подам вам повода желать мне зла! — воскликнула бедная женщина, вздохнув с облегчением.
— Тем лучше для вас, — равнодушно промолвил молодой человек. — Однако, поговорим лучше о чем-нибудь другом... Видели вы в последнее время Дугласа?
— Видела третьего дня, в тот же вечер он взял к себе на борт пять человек, из которых двое были рекомендованы мной.
— Вам нужно будет повидаться с ним сегодня.
— Сегодня?
— Да, и притом немедленно.
— Хорошо. От вас я пройду прямо к нему.
Дон Мигель отправился в свой кабинет, взял там письмо, которое он ночью положил под чернильницу, вложил его в чистый конверт, обмакнул перо в чернила и снова возвратился в спальню.
— Вот, — сказал он, подавая донне Марселине конверт с письмом и перо, — напишите на этом конверте адрес.
— Зачем же я буду...
— Я вам говорю — пишите: «Сеньору Дугласу».
— Больше ничего?
— Больше ничего.
— Извольте, написала, — проговорила донна Марселина, надписав то, что ей было велено и возвращая перо.
— Хорошо. Теперь идите к сеньору Дугласу, отведите его в сторону, если он не один, и отдайте ему от моего имени это письмо.
— С удовольствием, сеньор, но...
— Спрячьте письмо хорошенько у себя на груди.
— Готово! Можете быть покойны, не пропадет.
— Вот еще что, донна Марселина...
— Что прикажете, дон Мигель?
— Завтра или послезавтра, от двенадцати до половины первого пополудни, я буду у вас в доме и желаю, чтобы у вас никого не было. Поняли?
— Сделайте одолжение, сеньор. Я в это время поведу своих племянниц гулять. Но как же быть с ключами?
— Ах, да! Я об этом и не подумал... Вот что: позовите сегодня слесаря и прикажите ему сделать двойные экземпляры ключей. Пусть он сделает их обязательно сегодня же, а завтра утром вы пришлите их мне... Я у вас буду вечером, часов в шесть; вы можете вести своих племянниц в церковь к вечерне. В темноте я меньше рискую быть узнанным кем-нибудь.
— О, у нас там очень мало движения, оживление только летом, когда купаются в реке перед нашим домом.
— Ну, положим, так, а осторожность все-таки не мешает. Прошу вас оставить все внутренние двери отворенными.
— Само-собой разумеется, сеньор.
— О моем пребывании у вас никто не должен знать; слышите, никто! Надеюсь, что вы сумеете сохранить молчание, донна Марселина. На всякий случай предупреждаю вас, что если вы сделаете что-нибудь, могущее причинить мне хоть малейшую неприятность, то вам не снести своей головы. Запомните это.
— Я это знаю; голова моя давно уже в ваших руках. Но я за нее нисколько не боюсь, сеньор дон Мигель. Я и без того охотно дам себя изрезать на куски не только за вас, но даже за самого последнего унитария.
— Тут дело идет не об унитариях, и вы напрасно причисляете меня к ним. Разве я когда-нибудь говорил вам, что принадлежу к этому опасному обществу?
— Нет, но...
— Без всяких «но»! Я не унитарий — вот и все!.. Хорошо ли вы запомнили все, что я вам сейчас говорил?
— Помилуйте, сеньор, с моей-то памятью! Еще не было примера, чтобы я когда-нибудь забыла, — сказала донна Марселина, видимо, смущенная серьезным тоном, с каким молодой человек отрицал свою принадлежность к унитариям.
— Ну, и прекрасно... Теперь до свидания... Впрочем, подождите еще минуту; я чуть было не забыл...
Дон Мигель опять пошел в кабинет, и вскоре возвратился оттуда с банковским билетом в пятьсот пиастров.
— Вот это вам на расходы по заказу ключей и на гостинцы для ваших племянниц, — небрежно произнес он, протягивая донне Марселине деньги.
— Вы самый великодушный сеньор во всем мире! — вскричала обрадованная старуха, пряча деньги в одно место с письмом. — Патер Гаэте и в месяц не передаст столько Гертруде, сколько вы сразу даете мне за пустую услугу!
— Вы только ему этого не говорите, донна Марселина, и вообще будьте поосторожнее. Главное, чтобы меня никто не застал у вас в доме. Я завтра сообщу вам, когда именно буду у вас.
— Можете положиться на меня, сеньор дон Мигель. Я ваша душой и телом.
Сделав глубокий реверанс, она удалилась, шумя па весь дом своими шелковыми юбками.
ДОН КАНДИДО
Едва только ушла донна Марселина, как Тонилло ввел к своему господину того самого старика с тростью, которого мы оставили у наружных дверей дома дона Мигеля.
Войдя мерным шагом в кабинет, где находился теперь дон Мигель, старик положил свою шляпу и трость на стул и, протягивая молодому человеку руку, сказал:
— Здравствуй, дорогой и уважаемый Мигель. Мне очень нужно было повидаться с тобой и только теперь и то с трудом удалось добраться до тебя... Однако, как бы то ни было, я, наконец, здесь и вижу тебя лицом к лицу... С твоего позволения я сяду.
— Садитесь, дорогой учитель, садитесь, — с приветливой улыбкой проговорил дон Мигель, пожав старику руку. — Зачем же вы приходили так рано? Ведь вы знаете, что я встаю поздно.
— Увы, да! Несмотря на то, что тебе много раз доставалось от меня за то, что ты постоянно опаздывал в класс.
— Наказывать-то вы меня усердно наказывали, дорогой Сеньор Кандидо, но писать порядочно все-таки не научили.
— Это меня и радует.
— Как так?
— Очень просто, мой мальчик. Я тридцать два года был учителем каллиграфии, и в течение долговременной практики убедился, что только одни тупицы выучиваются писать четко, ясно и красиво, дети же, одаренные способностями и живым воображением, при всех стараниях никогда не в состоянии освоить то, что называется хорошим почерком, все они пишут неровно, без нажимов и неясно.
— Благодарю вас за этот косвенный комплимент; но, право, я предпочел бы обладать меньшими талантами и лучшим почерком...
— Значит, ты очень недоволен мной за то, что я не сумел заставить тебя писать лучше, т. е. не смог изменить твоей натуры?
— Что вы, сеньор! Мне быть недовольным вами!
— Так ты все-таки любишь меня хоть немножко?
— Не только немножко, а от всей души, как и всех, руководивших мной во время моего детства.
— А если бы я попросил у тебя услуги, оказал бы ты мне ее?
— Без малейшего колебания, если это только в моих силах! Говорите откровенно, сеньор Кандидо, что должен я для вас сделать.
— Скажу, скажу, погоди, дай собраться с мыслями.
— В смутные времена, подобные тем, которые мы сейчас переживаем, люди часто лишаются своего состояния. Вероятно, и с вами случилось такое несчастье? Пожалуйста, не стесняйтесь и будьте со мной откровенны, как с сыном, — ласково говорил дон Мигель, стараясь облегчить старому учителю, быть может, тяжелое признание в нужде.
— Нет, дело не в деньгах, — возразил старик. — Мой маленький капитал, слава Богу, цел, и мне, благодаря моим скромным потребностям, совершенно достаточно ренты с него... Нет, вовсе не то. Я хочу просить тебя кое о чем более серьезном. В жизни бывают ужасные эпохи, как, например, революции, увлекающие в свой поток и виноватых и правых, не щадящие никого и ничего. Революции можно уподобить бешеному урагану, стремительно налетающему на корабль, чтобы потопить его со всеми находящимися на нем людьми, не разбирая ни добрых, ни злых, ни христиан, ни язычников... Я сам пережил такой случай, когда совершал морское путешествие на корабле «Голос». О, какое это было ужасное путешествие!.. Со мной ехал один францисканский монах, человек прекрасный... Да. да, милый мой Мигель, могу уверить тебя, что и между нашими монахами встречаются прекрасные люди, что бы там ни говорили про них... Я и сейчас могу указать тебе на некоторых известных мне монахов, которые отличаются идеальной целомудренностью, кротостью, терпением и вообще всеми добродетелями, хотя я, с другой стороны, и не отрицаю, что, к сожалению...
— Простите, сеньор, но мне кажется, вы отошли от главного предмета, — перебил молодой человек, знавший по опыту, что сеньор Кандидо принадлежит к категории тех словоохотливых людей, которые начнут об одном, сведут на другое, потом на третье и так далее до бесконечности, если их вовремя не остановить.
— Нет, я именно к сути и шел, — кротко возразил старик, не сознававший своей слабости.
Но дон Мигель знал его хорошо. В другое время он охотно бы выслушал до конца забавную болтовню сеньора Кандидо, имевшего неистощимый запас рассказов и анекдотов, которые он перемешивал со своими рассуждениями, отличавшимися большей частью философским характером; но в это утро дону Мигелю было некогда, поэтому он довольно серьезно заметил:
— Лучше всего начинать прямо с начала и выбирать для достижения своей цели наикратчайший путь, то есть прямой.
— Вполне согласен с этим, дорогой Мигель, поэтому буду говорить коротко, точно и ясно.
— Вот и прекрасно. Начинайте же, сеньор.
— Я знаю, что ты поддерживаешься очень хорошими якорями, — начал старик, очень любивший описательный способ выражения с употреблением всевозможных прилагательных.
— Как так якорями? — недоумевал молодой человек.
— Я хочу сказать, — пояснил сеньор Кандидо, — что твои большие связи, благородные друзья, знакомства, поддерживаемые тобой в лучших домах города, по рекомендации твоего отца...
— Господи! Сеньор, да будет вам мучить меня! Скажите прямо, что вам нужно и чем именно я могу служить вам!— почти закричал дон Мигель, начиная выходить из терпения.
— Сейчас скажу, милый горячка, имей терпение!.. Все такой же нетерпеливый, как был в то время, когда еще бегал в коротенькой курточке, с длинными локонами по плечам. Бывало, сидишь в классе возле меня и выводишь буквы; полчаса сидишь, час, я только начну радоваться за твое спокойствие и усердие и прошу тебя повторить кое-какие буквы, как вдруг ты под каким-нибудь предлогом вскакиваешь и удираешь домой, не простившись ни с кем и даже не надев фуражки!.. Ну, так вот, я хотел, собственно, сказать, что твои прекрасные связи и положение твоего благородного, великодушного, всеми уважаемого отца, отличающегося непоколебимым патриотизмом и потому считающегося одним из столпов федерации; кроме того, твои выдающиеся таланты, твое удивительное умение обращаться с людьми всех сословий и твое...
— Спасибо за все эти похвалы! Но скажите же, ради Бога, что я могу сделать для вас?
— Выслушай меня и узнаешь.
— Да я слушаю.
— Я знаю, что по мере развития событий и давления обстоятельств, складывающихся помимо нашей воли...
— Сеньор Кандидо! Когда же вы, наконец, позволите мне услышать вашу просьбу?
— Сейчас, сейчас... Не могу же я так сразу и выпалить все: я ведь не пушка, да и ты не пушкарь, чтобы поджигать меня... Кстати, о пушках. Мой брат ездил в тысяча восемьсот десятом году в...
— Знаю, знаю, что он ездил в Европу и любовался там на старые крепостные пушки; при этом он ухитрился попасть ногой под лафет и чуть не отдавил себе ноги... Говорите скорее, что вам нужно. Мне, право, сегодня страшно некогда, и мы с вами лучше в другой раз поболтаем о пушках, кораблях и обо всем прочем.
— Следовало бы мне рассердиться на тебя, Мигель, да уж Бог с тобой! Я ведь знаю, что у тебя все-таки золотое сердце и ты вовсе не такой невежливый, каким хочешь казаться... Так вот что: ведь у тебя и правда много связей и знакомств.
— Порядочно. Дальше.
— Ты лично знаком и с начальником полиции, доном Бернардо Викторика, не так ли?
— Знаком. Вам что-нибудь нужно у него?
— Слушай, Мигель. Я учил тебя писать, я люблю тебя, как сына, за твою живость, впечатлительность, веселость, чувствительность, за ум, таланты и деятельность; я...
— Пощадите, сеньор! Вы меня совсем захвалите, так что я, чего доброго, и возгоржусь... На что вам нужен сеньор Викторика?
— Ах, Мигель! Ты почти единственный из всех моих учеников, с которым я поддерживаю отношения... Видишь ли, ужасная эпоха, которую мы переживаем, эта мрачная грозовая туча, нависшая над нашими головами и ежеминутно готовая разразиться истребительной бурей, громом и молнией, трепещущими в ее недрах; эта, говорю я, туча угрожает разбить все мое существование и окончательно погубить меня..,
— Перспектива скверная, что и говорить, — согласился дон Мигель, от нетерпения кусавший губы. — Ну, и что же я должен для вас сделать, чтобы предотвратить эту ужасную катастрофу?
— Оказать мне, в виду нее, большую услугу, милый Мигель.
— С этого вы начали, сеньор, но еще не договорили, и я тщетно прошу вас сказать мне, какой же именно услуги вы ожидаете от меня.
— Нельзя же так, сразу, я уж говорил тебе...
— Ну, хоть частями, если вы иначе не можете, только поскорее.
— У тебя есть связи?
— Есть, сеньор.
— Могущественные?
— Да, сеньор.
— Ты близок и с сеньором Викторикой?
— Да, сеньор.
— Так вот что, Мигель...
— Ну?
— Сделай ты...
— Что?
— Мигель, именем первых твоих страниц чистописания, которые я с таким удовольствием просматривал, указывая тебе на недостатки в начертании некоторых букв, сделай ты... Постой! Одни ли мы? Может быть, кто-нибудь подслушивает?
— Совершенно одни, сеньор, подслушивать у меня некому, — ответил дон Мигель, с изумлением замечавший, что старик все более бледнеет и смущается по мере того, как доходит до цели своего посещения.
— Так вот что, дорогой и уважаемый Мигель, устрой ты... О, Господи, никак не могу сказать!
— Если вы не можете сказать, что вам нужно, то я ничего не могу и сделать для вас.
— Ну, так и быть... Сделай, пожалуйста, так, чтобы меня... посадили... в тюрьму, — прерывисто прошептал сеньор Кандидо, приблизив свои губы к уху молодого человека, который выпрямился и внимательно вглядывался в глаза своего старого учителя, отыскивая в них признаки сумасшествия.
— Ты удивляешься? — продолжал старик, принимая прежнее положение. — Ты не можешь понять, что если исполнишь мою просьбу, то окажешь мне величайшую услугу, какую только может оказать мне человек, а между тем это верно.
— Да, я действительно, никак не могу понять, что хорошего вы находите в тюрьме, чтобы так рваться в нее и считать пребывание в ней величайшей милостью. Объясните мне, пожалуйста, эту загадку, сеньор.
— Почему я так рвусь в тюрьму, милый мой мальчик? Да просто потому, что там я буду жить совершенно спокойно, беззаботно и в полной безопасности в то время, когда разразится страшный ураган, угрожающий нам, засверкают тысячи смертоносных молний и загремит оглушительный гром, от могучих раскатов которого заколеблются в своих основаниях даже самые скалы.
— Вы, вероятно, говорите о...
— Да, об ожидаемой революции, дитя мое, именно о ней, — перебил старик. — Ты еще не понимаешь, что значат страшные, кровавые революции, и какие ужасные ошибки делаются во время них. В тысяча восемьсот тридцатом году, когда весь Буэнос-Айрес казался наполненным одними сумасшедшими, меня два раза заключали в тюрьму по ошибке, а теперь, через десять лет, я боюсь, как бы все наши сограждане не превратились в демонов и не снесли бы мне головы... тоже по ошибке. Во избежание этой уже непоправимой ошибки, я и умоляю тебя устроить так, чтобы меня посадили в тюрьму, якобы за какое-нибудь мелкое гражданское преступление, только пусть не обвиняют меня в чем-либо политическом, потому что в этом случае я погиб; не станут даже трудиться сажать меня в тюрьму, а прямо без дальнейших церемоний, перережут мне горло, — и дело с концом. Это была бы очень дурная услуга с твоей стороны и свидетельствовало бы о твоей неблагодарности к своему учителю.
— Но что собственно такое случилось? Что заставляет вас опасаться уже теперь? — спросил дон Мигель, уверившись, наконец, что старик говорит серьезно.
— Разве ты не читаешь наших газет? Разве не видишь, что они сплошь наполнены страшными угрозами против всех недовольных правительством?
— То есть против унитариев, хотите вы сказать? Да вам-то какое до этого дело? Ведь вы не унитарий и, насколько я знаю, никогда не вмешивались в политику.
— Конечно, нет! Я даже во сне никогда не принимал участия в таком опасном деле! — энергично подтвердил сеньор Кандидо. — Но угрозы относятся не к одним унитариям, а ко всему миру, мой друг. Главное, я боюсь ошибок, вроде той, о которой сейчас сказал.
— Пустяки, сеньор.
— Как пустяки! Разве ты не замечаешь тех мрачных людей с кровожадными глазами, выползших в последнее время Бог весть из каких нор, в которых они раньше прятались... а может быть, и прямо из ада. Они теперь везде шныряют: по улицам, площадям, по кофейням, толпятся на папертях святых храмов, — словом, повсюду. У них за поясами еще такие громадные кинжалы с ручками в виде прописной буквы А. Неужели ты не заметил этих людей?
— А разве вы, уважаемый сеньор Кандидо, не знаете, что кинжал всегда был и будет оружием федерации?
— Может быть, но все-таки эти люди — первые предвестники приближающейся разрушительной грозы, которая каждую минуту может разразиться над нашими головами.
— А может быть, все обойдется и без этой грозы, сеньор.
— Нет, не обойдется, дорогой Мигель, я знаю.
— Знаете? — повторил молодой человек, заинтересованный таким оборотом беседы. — Какие же у вас основания?
— О, это секрет, который тяготит мою душу с четырех часов прошедшей ночи! — загадочно прошептал старик.
— Сеньор, если вам не угодно будет говорить яснее и поскорее выгрузить из вашей прекрасной души секрет, ради чего вы, очевидно, и пожаловали ко мне, то я должен буду еще раз напомнить вам, что мне некогда продолжать нашу беседу, потому что мне нужно отправиться с визитом по весьма важному, безотлагательному делу, — категорически объявил дон Мигель, взглянув на часы.
— Нет, ты не отправишься, пока не выслушаешь меня до конца, — также решительно заявил сеньор Кандидо.
— Так говорите же скорее!
— Сейчас, не кипятись!
Сеньор Кандидо встал, выглянул сначала за одну дверь, потом за другую, удостоверился, что никого не спрятано ни в оконных нишах за занавесками, ни под широким диваном, и только после всех этих предосторожностей, подойдя вплотную к своему бывшему ученику, таинственно шепнул ему на ухо:
— Генерал Ла-Мадрид объявил себя врагом Розаса!
Дон Мигель так и привскочил в кресле, лицо его озарилось радостью, но он тотчас же овладел собой и сухо проговорил:
— Глупости, сеньор! Этого быть не может.
— Какие тут глупости! Как не может быть, когда это так же верно, как и то, что мы с тобой сейчас тут беседуем наедине? — возразил старик. — Ведь мы, действительно, наедине, не так ли?
— Да что вы все отклоняетесь в сторону, сеньор! — вскричал дон Мигель, начиная серьезно сердиться. — Говорите же, наконец, прямо! Ведь мы с вами не дети, чтобы играть в прятки!
— Пожалуйста, не сердись, милый Мигель, — с обычной своей кротостью произнес старик, снова подсаживаясь к молодому человеку. — Потерпи немного, и ты все узнаешь. Ты ведь умник у меня, не правда ли?.. Так вот, я хотел тебе сказать, что с тех пор, как я четыре года тому назад вышел в отставку из учителей каллиграфии, я совершенно замкнулся у себя и мирно живу процентами с моего маленького капитала, накопленного в течение долгих лет труда. Хозяйство мое ведет пожилая белая женщина, прекрасно сложенная, приятная на вид, очень хорошая по характеру, чистоплотная, аккуратная, экономная...
— Но, сеньор, что же общего между генералом Ла-Мадридом и вашей домоправительницей?
— Сейчас увидишь. У этой женщины есть сын, который десять лет служит солдатом в Тукумане. Очевидно, у этого сына золотое сердце, потому что он каждый месяц присылает матери часть своего жалования. Ты слушаешь меня, Мигель?
— Слушаю, сеньор.
— Ну так вот, нужно еще сказать тебе, что окно моей спальни выходит на улицу... Ах, да! Я забыл упомянуть, что сын моей экономки в прошлом году сделан курьером. Понял?
— Так. Ну?
— Так вот: из моей спальни выходит на улицу не только окно, но и дверь, а комната экономки находится рядом и имеет окно с решеткой, выходящее тоже на улицу. В последнее время, когда Буэнос-Айрес живет под страхом, трепеща за завтрашний день, я сплю очень плохо. Какой уж тут сон, когда постоянно дрожишь в ожидании катастрофы!.. Вечером я хожу играть в карты к старым друзьям, людям честным и благонамеренным, которые никогда не говорят ни слова о политике и даже не касаются настоящих страшных, мрачных и чреватых невзгодами времен. Сегодня, я уже не пойду к ним, а останусь дома...
— Господи! Ну, что опять общего между вашей игрой в карты и генералом...
— Сейчас узнаешь, мой милый птенчик.
— Очень уж длинно это ваше «сейчас», сеньор Кандидо!
— А у тебя оно чересчур коротко... Так вот я хотел сказать...
— Опять о чем-нибудь постороннем?
— Нет, о том деле...
— О генерале Ла-Мадриде?
— Ну, да, конечно.
— Слава тебе, Господи!.. Продолжайте, пожалуйста.
— Так вот, видишь ли, прошедшей ночью, в четыре часа, я вдруг услыхал, как около моего дома остановилась лошадь и с нее спрыгнул человек, бряцавший оружием и шпорами, следовательно, военный; я человек смирный и страшно боюсь людей, занимающихся кровавым ремеслом. Появление военного, да еще в такую пору, когда вокруг так темно и жутко, навело на меня такой ужас, что я дрожал как лист, потрясаемый бурей, и весь покрылся холодным потом... Ведь это очень понятно, не правда ли?
— Продолжайте, сеньор!
— Продолжаю... Кое-как собравшись с силами, я встал, осторожно открыл окно и выглянул на улицу. Ночь была очень темная, но, тем не менее, я разглядел военного, стоявшего у отворенного окна Николассы (ты знаешь, так зовут мою экономку) по ту сторону моей двери, выходящей на улицу, и о чем-то шепотом переговаривавшегося с ней. Немного спустя, Николасса отодвинула в сторону решетку, и военный вскочил в окно. В голове моей закружился целый вихрь мыслей, одна другой мучительнее. Зубы мои от ужаса выбивали барабанную дробь, и я был близок к обмороку. Я подумал, что предан Николассой, и что меня сейчас схватят и потащат неведомо куда или тут же, на месте, убьют... Сам не знаю, как это я, раздетый и босой, вышел во двор (комнаты моя и та, в которой живет Николасса, не имеют между собой прямого сообщения) и приник к замочной скважине ее двери. И что же ты думаешь, мой мальчик, кого я увидал у нее?
— Вероятно, того, о ком хотите мне рассказать.
— Верно. Я увидал ее сына. Хотя вид его и успокоил меня, но я все-таки не ушел, а продолжал стоять у двери, глядеть и слушать, потому что меня заинтересовало, зачем молодой человек явился к своей матери ночью, притом таким необычным путем. Они горячо обнялись и поцеловались, а потом мать предложила приготовить сыну постель, но он отказался, говоря, что ему немедленно нужно возвратиться к губернатору, которому он привез из Тукумана депеши, и что он отлучился только на несколько минут, пока губернатор читает, чтобы повидаться с матерью.
Старик перевел дух и внимательно посмотрел на молодого человека, который более не выказывал никаких признаков нетерпения, а весь превратился в слух.
— Продолжайте же, сеньор, — сказал дон Мигель.— Не говорил ли этот курьер еще что-нибудь?
— Говорил, и каждое его слово врезалось в мою память, точно выжженное раскаленным железом, — сказал сеньор Кандидо. — Он говорил, что привезенные им депеши написаны очень важными и богатыми людьми в Тукумане, и, по его догадке, содержат донос губернатору о том, что сделал генерал Ла-Мадрид. Николасса, любопытная, как все женщины, стала расспрашивать, что же именно делал этот генерал. Взяв с нее клятву, что она никому не проговорится ни словом, ни намеком, сын рассказал ей, что генерал Ла-Мадрид, прибыв в Тукуман, тотчас же публично провозгласил себя врагом Розаса, что весь народ встретил его с восторгом, и местные представители правительства сделали его главнокомандующим всех линейных войск и провинциальной милиции. Кроме того, молодой человек сообщил матери, что начальником главного штаба у них назначен полковник дон Лоренсо Лугонес, а начальником гвардейских кирассиров — полковник дон Мариано Ача... Можешь себе представить, мой дорогой Мигель, какое впечатление должны были произвести на меня все эти новости! Я даже забыл, что стою раздетый и разутый во дворе и подслушиваю у дверей, чего во всю жизнь раньше не делал.
— Воображаю, — ответил дон Мигель, жадно подхватывавший теперь каждое слово, выходившее из уст старика, и за которое он готов был бы заплатить всем своим состоянием, хотя и старался не выказать того, что в нем происходит: он давно уже научился отлично владеть собой. — Что же было дальше? — спросил он по возможности равнодушно.
— Дальше? — повторил сеньор Кандидо. — Да чего же тебе еще нужно? Разве тебе мало того, что я сказал?.. Остальное, что говорил курьер, неважно: о празднествах, которые готовятся в Тукумане, о движении войск в провинции, которые почти все перешли на сторону Ла-Мадрида по убеждению.
— А никого он не называл по имени?
— Никого. Когда он стал давать матери деньги, говоря, что вернется днем, если его не пошлют сейчас же обратно с новыми депешами, я поспешил убраться к себе в спальню... Славный молодой человек! Любит и уважает мать, как редко кто... Я расскажу тебе, что он раз сделал для нее...
— А сколько ему лет?
— Двадцать два или, самое большее двадцать три года. Он очень красивый малый: высокий ростом, прекрасного телосложения, белокурый, нос с горбинкой, темно-голубые глаза, маленькие усики... По характеру — храбрый, деятельный, добросердечный и веселый.
— Что он добросердечен, видно уже по тому, как он относится к своей матери, — заметил дон Мигель. — Но не сочинил ли он все это, чтобы придать себе важности в ее глазах! Впрочем, это было бы уж чересчур глупо... Ну, предположим, что он сказал правду насчет Ла-Мадрида, все-таки я не пойму, что же вы в этом находите дурного лично для себя?
— Не только лично для себя, но для всего нашего общества, — проговорил старик. — Вот возьмем хотя бы тебя. Говоря откровенно, не можешь же ты серьезно быть на стороне правительства, проливающего столько крови, делающего столько несправедливостей, не правда ли? Конечно, ты из благоразумия только показываешь вид...
— Сеньор, я охотно готов выслушать все ваши признания, которые сохранятся в моей душе как в могиле, но я вовсе не обязан открывать вам свои политические убеждения.
— Я так и говорю, что ты мальчик очень благоразумный и осторожный; положим, передо мной ты мог бы и не скрываться, потому что я и так вижу тебя насквозь.
— Ну, да Бог с тобой! Я не обижаюсь... Что касается Ла-Мадрида, то его выходка должна страшно разозлить сеньора губернатора, который начнет теперь шпиговать своих приближенных; те обозленные, в свою очередь, начнут отводить душу на своих подчиненных, а эти будут срывать зло на всех гражданах города и примутся косить направо и налево правых и виноватых, кого попало, так что я, хотя и невинен, как любой новорожденный младенец, но не могу поручиться за целость своей головы. Вот этой-то опасности я и хочу избежать и прошу твоей помощи, милый Мигель. Понял ты меня теперь, наконец?
— По-моему, вам лучше всего запереться у себя и не выходить из дому до тех пор, пока гроза, которую вы ожидаете, не пронесется над нами, — сказал молодой человек.
— Чем же я гарантирован от опасности, если последую твоему совету? Разве те, которые будут посланы зарезать моего соседа Хуана де лос-Палотеса, не могут ошибиться домом и вместо него убить дона Кандидо Родригеса, отставного учителя каллиграфии, человека почтенного, миролюбивого, доброго и глубоко нравственного?
— Бывают такие ужасные ошибки, — это верно, сеньор, но не как правило, а как редкие исключения.
— Ну, представь себе, что я буду одним из этих редких исключений, разве моя смерть под ножом убийцы будет от этого менее ужасной и мучительной, а несправедливость, будет менее вопиющей и жестокой?
— Нет, но...
— Но вот и нужно избежать возможности сделаться таким неприятным исключением.
— Так неужели и в самом деле вы хотите во избежание этого сесть в тюрьму?
— Да, это, по-моему, самый лучший способ, дорогой Мигель. Если я попаду в тюрьму по обвинению в каком-нибудь пустом гражданском преступлении, то на меня никто и внимания не обратит, и я буду укрыт от всех ужасов. В случае, если бы губернатор приказал покончить со всеми опасными ему людьми, находящимися в тюрьме, то меня не тронут, потому что я буду сидеть не за преступление против него, а по частному делу. Вообще мне будет там гораздо спокойнее, чем в собственном доме. Тюремщиков я бояться не буду, так же, как и солдат, которые будут моими защитниками против народной ярости и гарантией в том, что я не сделаюсь жертвой какой-нибудь роковой ошибки.
— Все, что вы говорите, — чистейший абсурд, дорогой сеньор Кандидо. Но предположим, даже если бы это было разумно, то, как вы думаете, под каким предлогом могу я побудить дона Викторику посадить вас в тюрьму?
— Нет ничего легче, мой прелестный мальчик, и я тебе сейчас докажу это. Ты пойдешь к сеньору Бернардо и скажешь ему, что я нанес тебе такое оскорбление, какое в сущности могло бы быть смыто только кровью, но так как я — твой бывший учитель, то ты по старой памяти, жалея меня, просишь только убрать меня с глаз долой, посадив в тюрьму до тех пор, пока не остынет твой гнев. Меня по твоей просьбе, разумеется, сейчас же посадят, и я пробуду в безопасном, спасительном заключении до тех пор, пока, как ты сам выразился, не минует гроза. Тогда я напомню о себе, и ты попросишь, чтобы меня выпустили на волю. Вот и все. По-моему, я придумал это вполне разумно.
— Вы забываете, сеньор, что у нас пока еще не принято, чтобы младший жаловался на старшего за обиду, а тем более на воспитателя или учителя. Но как бы там ни было, а ваше положение меня очень интересует, и я постараюсь придумать, как бы вам помочь, — сказал дон Мигель, сообразив, что из панического страха старика можно будет извлечь пользу для собственного дела, так как он будет согласен на все, лишь бы обещать ему гарантию в полной безопасности.
— Я так и знал, что ты примешь во мне участие! — воскликнул старик со слезами на глазах. — Ты не даром самый благородный, добрый, деликатный и великодушный из всех моих прежних учеников... Ты спасешь меня? Да?
— Постараюсь... Вот что: согласны вы занять частную должность в «доме одного лица, политическое положение которого может служить лучшим доказательством благонадежности служащих у него?
— О, то было бы исполнением моего самого горячего желания! Я никогда не служил на частной службе, но всегда мечтал о ней. Обстоятельства сложились так, что мне этого не удалось... Милый мой, я уже заранее предан моему будущему патрону душой и телом, честью и совестью... Ах, Мигель, ты, действительно, спасешь меня?
Старик встал и обнял своего бывшего ученика в порыве самой искренней, горячей и восторженной признательности.
— Очень рад, что могу услужить вам, сеньор Кандидо, — проговорил молодой человек, искренне ответив на его объятия. — Идите теперь домой и приходите ко мне опять завтра утром.
— Приду, приду...
— Только не в шесть часов утра...
— Нет, зачем в шесть! Я приду в семь...
— И это рано, приходите в десять.
— Хорошо, я приду ровнехонько в десять часов, ни одной минутой ни раньше, ни позже.
— Смотрите, не проговоритесь больше никому насчет генерала Ла-Мадрида.
— Боже меня избави! Я даже не буду спать ночью, чтобы как-нибудь нечаянно не проболтаться во сне. Даю тебе в моем безусловном молчании слово честного человека и миролюбивого гражданина. Я ведь...
— Хорошо, хорошо, я верю вам, сеньор... Итак, до завтра, — сказал дон Мигель, провожая своего бывшего учителя до передней.
— До завтра, лучший и благороднейший из всех моих учеников! — с чувством произнес старик, еще раз пожимая руку молодому человеку.
Дон Кандидо вышел на улицу с тростью под мышкой; он теперь шел твердым и бодрым шагом, не принимая более никаких предосторожностей. Чего ему теперь было бояться, когда он на следующий же день будет находиться под защитой высокопоставленного федералиста?
— Эге, уже полдень!.. Тонилло, подай мне один из моих светлых костюмов! — крикнул дон Мигель, когда сеньор Кандидо удалился.
— Приходил человек от полковника Саломона, — доложил Тонилло, роясь в гардеробе своего господина.
— С письмом? — спросил дон Мигель.
— Нет, сеньор. Полковник приказал передать вам на словах, что народное собрание будет у него сегодня, в четыре часа, и он ждет вас к себе в три с половиной.
— Хорошо... Давай скорее одеваться!
АНГЕЛ И ДЕМОН
В это самое время, то есть в полдень пятого мая, желтая коляска, запряженная парой прекрасных вороных лошадей, проехав рысью улицы генерала Манциллы и Потоси, свернула на улицу Пиедрас, где и остановилась за церковью Сан Хуана перед домом, парадная дверь которого вся была расписана огненными языками, точно это был вход в ад.
Из коляски вышла или, вернее, выпорхнула молодая дама, чуть коснувшись кончиками пальцев затянутой в лайковую перчатку руки плеча своего лакея, причем на мгновение показались ее крохотные ножки, обутые в фиолетовые шелковые ботинки.
Этой молодой даме было лет двадцать шесть или двадцать семь и она отличалась поразительной красотой. Ее золотистые локоны, выбивавшиеся из-под полей тонкой соломенной шляпы, обрамляли лицо безупречно овальной формы и ослепительной белизны. Широкий, низковатый лоб, прекрасные голубые глаза с мечтательным выражением, тонкие темные брови, прямой нос с розовыми, подвижными и почти прозрачными ноздрями, маленький смеющийся рот с пухлыми пунцовыми губами, — все это составляло восхитительное целое. Ее стройная, изящная фигура, грациозные манеры и богатый, элегантный костюм доказывали, что она принадлежит к высшему обществу Буэнос-Айреса.
Входя в отворившуюся перед ней дверь, незнакомка должна была собраться с духом и приложить к носу пропитанный мускусом платок, чтобы не лишиться чувств от страшного зловония, царствовавшего в широкой галерее и во дворе, наполненном всякого рода домашними животными, негритянками, мулатками, слугами с разбойничьими физиономиями, безобразие которых резко оттенялось ярко-красным платьем, облекавшим тела этих людей.
Дом этот принадлежал донне Марии Жозефе Эскурра, свояченице дона Хуана Мануэля Розаса.
С трудом пробравшись сквозь толпу тунеядцев, молодая незнакомка постучалась в дверь. Так как никто не отворял ей, она сама толкнула дверь и вошла в переднюю. Там сидели на полу, устланном белой циновкой, две мулатки и три негритянки, грязные до невозможности и до такой степени безобразные, что страшно было на них смотреть. Они фамильярно болтали с солдатом с таким лицом, по которому трудно было различить, где кончается животное и где начинается человек.
Все эти шестеро с жадным любопытством уставились на прибывшую, на которой не заметно было никаких федеральных значков, каковыми были сплошь увешаны они сами; только из-под левого поля шляпы молодой дамы виднелись кончики розового бантика — слабой тени предписанного федерацией большого, бросающегося в глаза банта.
При входе незнакомки болтовня вдруг прекратилась.
— У себя сеньора донна Мария Жозефа? — спросила дама, ни к кому в особенности не обращаясь.
— У себя, но она занята, — грубо ответила одна из негритянок.
Постояв несколько мгновений в нерешительности, незная, как выйти из неловкого положения, дама подошла к окну, выходившему на улицу, позвала своего лакея и приказала ему прийти к ней.
Когда он появился в дверях передней, она сказала ему:
— Постучитесь в дверь, ведущую во второй двор этого дома, и спросите, может ли сеньора донна Мария Жозефа принять сеньориту Аврору Барро.
Повелительный тон и нравственное превосходство, всегда отличающие благородных людей от толпы, когда они, очутившись в тисках неблагоприятных обстоятельств, умеют удержаться на высоте своего положения, не замедлили произвести сильное впечатление и на этих шестерых в передней донны Марии Жозефы, вообразивших, благодаря случайностям революции, что они теперь сделались равными с культурными людьми, которых им то и дело приходилось грабить и убивать. Они все съежились, и лица их приняли более почтительное выражение.
Между тем, донна Аврора, спокойно осталась стоять у окна.
Через несколько минут в переднюю явилась чисто одетая служанка и вежливо попросила донну Аврору подождать немного; обратившись затем к сидевшим на полу «дамам-федералисткам», она объявила, что ее госпожа, к сожалению, не может сейчас принять их и просит пожаловать вторично после трех часов дня.
Безобразные, грязные и зловонные «дамы» тотчас же молча встали и ушли; только одна из них, толстая негритянка, не удержалась, чтобы не бросить взгляда, полного злобного негодования, на невольную причину отказа в аудиенции. Но это был напрасный труд: донна Аврора не обращала ни малейшего внимания на этих странных посетительниц свояченицы всесильного губернатора Буэнос-Айреса.
Служанка удалилась. Солдат, которому ничего не было сказано и который был призван в этот дом нарочно, скромно уселся на самом пороге комнаты.
Донна Аврора тоже опустилась на стул и закрыла руками глаза, как бы желая дать им отдых от той отвратительной картины, которую ей пришлось созерцать.
Между тем, в одной из соседних комнат донна Мария Жозефа спешила с отправкой двух служанок, с которыми она беседовала, собирая в пачку несколько десятков прошений, полученных ею в это утро в сопровождении подарков. Все эти прошения она потом должна была передать на усмотрение его превосходительства реставрадора, хотя отлично знала, что он бросит их не прочитанными. Донна Мария Жозефа торопилась развязаться с делавшими ей обычный утренний доклад служанками, чтобы не заставлять слишком долго ждать сеньориту Аврору Барро, принадлежавшую по матери к одному из самых старинных и видных домов Буэнос-Айреса, связанного родственными узами с домом Розаса. В последнее время Аврора и ее мать под предлогом отсутствия главы семейства, сеньора Барро, почти совсем прекратили свои визиты к Розасам и их родственникам, так что настоящее посещение было выдающимся событием для донны Марии Жозефы.
Политические события в Буэнос-Айресе в 1833 и 1835 годах могут быть объяснены лишь участием в них супруги дона Хуана Мануэля Розаса, которая, не будучи безусловно злой женщиной, тем не менее обладала особенной склонностью к темным интригам. Точно так же останутся непонятными политические движения 1839, 1840 и 1842 годов, если мы не выведем на сцену донну Марию Жозефу Эскурра, имевшую громадное влияние на общественную жизнь Буэнос-Айреса.
Словом, эти две сестры направляли политику в Буэнос-Айресе, и обойти их молчанием значило бы дать ложную окраску описываемым историческим фактам.
Свояченица Розаса не была предназначена природой к нежным чувствам, свойственным большинству женщин; страсть к политике заставляла биться ее сердце и волновать ее кровь. Развитию этой аномалии способствовали некоторые обстоятельства ее жизни и условия, в которые она была поставлена. Положение ее зятя и упорная борьба с ним аргентинского общества служили исходными пунктами деятельности этой женщины, жаждавшей сильных ощущений и возможности применить к чему-нибудь кипевшие в ней силы.
Одаренная в сущности весьма посредственным умом и обыденными способностями, донна Мария, однако, явилась лучшей помощницей Розаса, открывая ему пути, которых он сам никогда бы не мог найти.
Она в своих действиях руководствовалась не каким-нибудь расчетом, как это можно было бы предположить, а исключительно одной слепой страстью: фанатической преданностью федерации и ее верховному представителю, Розасу.
Но возвратимся к сути нашего повествования...
Наконец, донна Аврора была приглашена в кабинет хозяйки дома, которая с кисло-сладкой улыбкой пожимала своими костлявыми и грязными пальцами маленькую изящную руку гостьи.
Мария Жозефа была женщина уже пожилая, худая, с некрасивым, хитрым лицом; ее маленькие круглые глаза беспокойно бегали по сторонам и горели огнем, как у хищной птицы. На ее седой, плохо причесанной голове, торчали ушки громадного кроваво-красного банта.
— Вот неожиданный сюрприз!— воскликнула она неприятным, резким голосом, усаживая гостью рядом с собой на диване. — А отчего же не пожаловала с вами и ваша матушка, донна Матильда?
— Мама немного нездорова, и доктор запретил ей выезжать, — ответила донна Аврора. — Она очень сожалеет о невозможности повидаться с вами и шлет вам через меня искренний привет.
— Если бы я не знала донну Матильду и все ваше семейство, как саму себя, то могла бы счесть ее за унитарку, потому что одни унитарии отличаются удивительной страстью к уединению. И знаете, почему эти безумные люди так прячутся от всех?
— Нет, сеньора.
— Очень просто: они избегают общества, чтобы не быть вынужденными надевать установленных федерацией значков; но это, по-моему, прямо сумасшествие... С каким удовольствием я приколотила бы им гвоздями эти знаки благонадежности, так чтобы их никогда нельзя было снять!.. Вот и вы, донна Аврора, не носите этого значка как следует.
— Но все-таки я ношу его, сеньора.
— Нет, выходит так, как будто вы его вовсе не носите, следуя этому пагубному примеру унитариев. Хотя вы и дочь француза, то есть человека, стоящего на стороне этих мерзких людей, по вам все-таки не следовало бы так резко подчеркивать этого, раз ваша мать чистокровная аргентинка. Вы, очевидно, нарочно...
— Я ношу значок, и этого, по-моему мнению, совершенно достаточно... Позвольте мне передать вам от имени моей матери эту посильную лепту в пользу госпиталя для неимущих женщин, в котором вы состоите попечительницей, — проговорила донна Аврора, вынимая из крохотного бумажника из слоновой кости четыре мелко сложенных банковских билета и вручая их своей собеседнице.
Это была сумма, которую она ежемесячно получала от своего отца «на булавки».
Мария Жозефа быстро развернула билеты, удостоверилась, что все они одинаковой ценности (по сто пиастров) и дрожащими от алчности руками спрятала их к себе за корсаж.
— Вот это вполне федерально! — произнесла она слащаво-покровительственным тоном. — Скажите вашей матушке, что я сегодня же доведу до сведения дона Хуана Мануэля об этом благородном поступке, делающем ей большую честь. Сами же деньги передам завтра утром дону Хуану Карлосу Розадо, эконому госпиталя для неимущих женщин.
— Мама была бы вам крайне признательна, если бы вы были так добры и не говорили никому об этом незначительном пожертвовании, так как это дело ее совести, — сказала молодая девушка. — Вообще к чему беспокоить сеньора губернатора такими пустяками, когда он постоянно занят серьезными делами, заботясь о благе республики! Кстати сказать, я думаю, что если бы вы и донна Мануэлита не посвящали все свои силы поддержке сеньора реставрадора в его тяжких трудах, он, наверное, свалился бы под их тяжестью.
Донна Мария Жозефа расцвела от предложенного ей таким деликатным образом подарка и от тонкой лести молодой девушки.
— На то мы и существуем на свете, чтобы поддерживать друг друга, — сказала она, сворачиваясь клубком в углу дивана, что она всегда делала, когда была чем-нибудь довольна.
— Я удивляюсь, как только может Мануэлита выносить вечное бодрствование по ночам! Я на ее месте давно бы обессилела.
— У нее, наверное, это тоже кончится очень плачевна. Например, прошлую ночь отец продержал ее у себя до четырех часов утра.
— До четырех часов! Боже мой!
— Даже до четверти пятого...
— Это ужас! Хорошо, что у нас в Буэнос-Айресе все так спокойно, иначе бедная Мануэлита извелась бы от одного страха за отца.
— Вот и видно, что вы совсем не интересуетесь политикой, милая Аврора, иначе вы знали бы, что у нас вовсе не так спокойно, а, напротив, мы переживаем очень тревожное время.
— Неужели? Это мне кажется совершенно непонятным! Театр войны так отдален от нас, что...
— Так и есть! По всему видно, что вы, милочка, кроме своих нарядов, ровно ничего не знаете о том, что делается на белом свете! Вы, следовательно, и не слыхали, что унитарии каждую ночь эмигрируют из Буэнос-Айреса целыми толпами?
— Об этом-то я слышала, но ведь это такое дело, в котором им и воспрепятствовать нельзя: берег велик.
— Вы думаете, что нельзя воспрепятствовать?
— Конечно.
— Ха-ха-ха! — засмеялась старуха, показывая свои единственные три желтых зуба. — Представьте себе, что даже в эту ночь арестовано несколько человек, желавших бежать, а вы говорите — нельзя! Ха-ха-ха! Ну, и наивны же вы, как я погляжу!
— Не может быть!..
— Я вас уверяю, что арестовано четверо...
— Четверо?
— Да, целых четверо.
— Ну, так что же, — с напускным равнодушием проговорила донна Аврора. — Они теперь не убегут, сидя за крепкими стенами и запорами.
— О, их не только арестовали, но с ними сделали и еще кое-что получше!
— Получше? Что же еще может быть, кроме тюрьмы, для таких сумасбродов? — удивлялась донна Аврора, не желавшая показать, что она знает о ночном происшествии от донны Августы Розас, с которой успела повидаться...
— Да видите ли, милочка, федералы нашли более удобным перере... расстрелять их всех, чем содержать в заключении, что сопряжено с некоторыми хлопотами, а иногда и не достигает цели, потому что даже из тюрем люди ухитряются бежать, — с торжествующей улыбкой объясняла донна Мария Жозефа.
— Ах, вот что! Да это, действительно, мера вполне радикальная.
— Вы с этим согласны? Жаль только, что это славное торжество федерации не обошлось без неприятности, так что оно, к моему великому огорчению, не может быть названо полным.
— А что такое? — как бы равнодушно спросила молодая девушка, занятая застегиванием упорно расстегивавшейся пуговицы на одной из своих перчаток.
— Да, представьте себе, один из этих негодяев убежал!.. Их было, в сущности пятеро, но навсегда обезвредить удалось только четверых...
— Ну, это ведь только отсрочка для убежавшего: наша деятельная полиция живо разыщет его, и ему не миновать своей участи, — заметила донна Аврора.
— Увы! К сожалению, наша полиция вовсе не так деятельна, как вы воображаете, милочка!
— Что вы! Сколько раз я слышала, что сеньор Викторика — человек необыкновенных способностей и ведет порученное ему дело как нельзя лучше! — хитрила молодая дипломатка, чтобы этими противоречиями заставить собеседницу окончательно высказаться.
— Викторика! — воскликнула донна Мария, которую всю передернуло от задетого самолюбия. — Викторика ровно ничего не значит и никуда не годится. Это только послушная марионетка в моих руках. Веду дело я, а вовсе не он!
— Вот как! Преклоняюсь перед вашим умом и удивительными талантами, сеньора! И когда только вы находите время заниматься такой массой серьезных дел!
— Вот нахожу, хотя иной раз мне, действительно, трудно уследить за всем и сделать все нужное... Ваш хваленый Викторика, наверное, еще и пальцем о палец не ударил по делу о поимке беглеца, а я только два часа тому назад узнала об этом происшествии от моего зятя и уже успела собрать кое-какие сведения о бежавшем. Дело в том, что никому не известно, кто он и где его искать...
— А вы узнали это?
— Положим, не совсем еще, но, наверное, узнаю сегодня же, — самодовольно хвалилась старая дева.
— Интересно бы знать, как поступают в подобных трудных случаях умные люди? — задумчиво проговорила донна Аврора.— Я положительно растерялась бы.
— Где уж вам, молодым ветренницам, работать головой!— со снисходительной усмешкой сказала донна Мария Жозефа. — Хотите, я открою вам свой способ действий, например, в настоящем случае? Это очень поучительно. Об эмигрантах донес один человек по имени Кордова, который завел их в ловушку, как делают с вредными животными. Я потребовала его к себе и подробно расспросила. Оказалось, что и он не знает имени бежавшего. Тогда я велела позвать несколько человек солдат из участвовавших в ночной экспедиции. Один из них дал мне превосходные указания... Он и сейчас сидит у меня в передней, и я, пожалуй, чтобы доставить вам удовольствие, еще раз порасспрошу его при вас... Эй! Позвать сюда солдата Пикадо! — крикнула старуха, хлопнув в ладоши.
Рядом с кабинетом, в комнате, занимаемой горничной, послышалось движение, и через минуту в дверях показался солдат со шляпой в руке.
— Повтори мне, Пикадо, — обратилась к нему донна Мария Жозефа, — что ты сказал насчет гнусного и нечестивого унитария, ускользнувшего от вас ночью.
— Я сказал, сеньора, что у него должно быть несколько ран на теле, — ответил солдат, оскаливая свои желтые зубы и свирепо сверкая глазами.
— Где же именно?
— Одна рана в левом бедре, а другие, не знаю где.
— Чем его ранили?
— Саблей, сеньора... наотмашь!
— Ты это точно знаешь?
— Как же мне этого не знать, когда я сам и нанес ему рану, рубанув его по левому бедру!
Донна Аврора с невольным движением ужаса откинулась на спинку дивана.
— Узнаешь ты этого нечестивца, если увидишь его?
— По лицу нет, а по голосу могу узнать.
— Хорошо. Можешь уходить... Слышали, милочка? — продолжала донна Мария Жозефа, повернувшись опять к своей посетительнице, которая не пропустила ни одного слова из сказанного солдатом. — Разве это не драгоценное указание, по-вашему? А?
— Я этого не нахожу, сеньора, — возразила молодая девушка. — Какая вам польза, если вы и знаете, что у беглеца рана па левом бедре?
— Неужели вы этого не понимаете?
— Нет, сознаюсь откровенно. Ведь этот человек, наверное, не бегает по улицам показывать прохожим свою рану, а лежит себе где-нибудь в постели и старается залечить ее. Стены у домов не прозрачные.
— Бедняжка! Как вы... наивны! — воскликнула старая дева, ударяя ее по плечу. — Эта рана дает мне в руки сразу три нити.
— Как так?
— Очень просто. Слушайте и поучайтесь. Первая нить — доктора, призываемые к раненым; вторая — аптеки, поставляющие лекарства, перевязочные средства и тому подобное; третья — дома, в которых вдруг появляются раненые... Ну, что вы скажете на эту комбинацию?
— Я нахожу, что все это очень остроумно, сеньора, и что мне никогда бы не додуматься до этого. А все-таки мне кажется, что вы не достигнете цели.
— На этот грустный случай у меня в запасе есть другой путь. Я уже предусмотрела...
— Боже мой! Я немею от восторга! Ну, а если и этот путь окажется... как бы это сказать...
— Неудачным? Этого быть не может! Какой у нас сегодня день?.. Суббота?
— Да, сеньора, суббота.
— Ну, так вот, если мне сегодня и завтра не удастся добраться по имеющимся у меня нитям до клубка, то в понедельник он уже обязательно попадется мне целиком!
— Но если нити оборвутся?
— Это ничего не значит.
— Значит, вы собираетесь совершить настоящее чудо!
— Вот увидите в понедельник, что я сделаю.
— Да почему же непременно в понедельник, а не в другой какой-нибудь день? _
— Почему?.. А как вы, милочка, полагаете, идет из ран унитариев кровь или нет?
— Я думаю, идет, как и у всех людей, — ответила донна Аврора, пораженная этим странным вопросом.
— Гнусные унитарии не могут называться людьми! — злобно произнесла старая мегера.
— Что же они такое, если не люди?
— Смердящие псы... дикие звери!, и уничтожать их — чистое наслаждение!
По телу молодой девушки пробежала нервная дрожь ужаса, заставившая ее побледнеть.
— Так вы соглашаетесь с тем, что из ран этих мерзких тварей тоже идет кровь? — продолжала донна Мария Жозефа, вся охваченная страстью похвалиться своим умом, и поэтому не заметившая, что делается с ее собеседницей.
— Соглашаюсь, — сделав над собой страшное усилие, ответила донна Аврора.
— Следовательно, вы согласитесь и с тем, что кровь пачкает белье?
— Конечно.
— И что на раны накладываются бинты?
— И с этим вполне согласна.
— И что простыни, на которых лежат раненые, должны быть пропитаны кровью?
— Наверное.
— А также и полотенца, которыми врачи, перевязывающие раны, вытирают руки?
— По всей вероятности.
— Вы признаете необходимость всего этого, милочка?
— Признаю, сеньора, но откровенно сознаюсь, что я решительно не понимаю, к чему ведут все эти ваши вопросы, — произнесла донна Аврора, едва уже будучи в силах скрыть свое отвращение.
— Надеюсь, что вы сейчас все поймете, — со злой улыбкой сказала старуха.— В какой день отдается в стирку белье?
— Обыкновенно в первый день недели.
— Верно, в восемь или девять часов утра, а в десять прачки появляются с ним на реке, не так ли?
— Кажется так, — пробормотала молодая девушка, начиная догадываться, в чем дело.
— Никто не имеет права стирать белье кроме как в реке, и на этом правиле основана моя вторая комбинация. Поняли теперь? — с торжеством спросила донна Мария Жозефа.
— Поняла... Этот план тоже превосходен! — прошептала дрожащими губами девушка, с громадным трудом выносившая пытку в присутствии этой чудовищной женщины, само дыхание которой казалось ей отравленным.
— Я знаю, что он превосходен и никогда не мог бы придти в голову Викторике, которого только глупцы провозгласили неизвестно за что гением.
— Да, это... верно.
— А еще менее одному из этих наглых фатишек-унитариев, мнящих себя очень умными, хотя они в сущности глупее всякой курицы.
— Конечно. Где уж им додуматься до чего-нибудь подобного! — со скрытой горечью проговорила донна Аврора, всецело принадлежавшая к унитариям как и по рождению, так и по воспитанию и по вкусам.
— Очень рада, что вы разделяете мое мнение об этих гнусных тварях, — продолжала хозяйка дома. — Они, действительно, так глупы, что их легко может водить за нос даже пятилетний ребенок — федералист... Смотрите, не вздумайте выйти замуж за унитария! — ни к селу ни к городу добавила она. — Ах, да, кстати! Как поживает сеньор дон Мигель, которого тоже с некоторых пор совсем не видно?
— Он вполне здоров, сеньора.
— Слава Богу!.. Но будьте осторожнее, послушайтесь моего доброго совета!
— Чего же мне остерегаться? — спросила девушка, несколько оживившаяся, когда речь зашла о доне Мигеле,
— Чего?... Как будто вы этого не знаете! Влюбленные всегда очень проницательны во всем, что касается предмета их любви.
— Я вас опять не понимаю, сеньора.
— Ведь вы любите дона Мигеля?
— Сеньора!
— Не старайтесь, пожалуйста, скрыть от меня то, что я знаю, вам этого не удастся сделать.
— Если вы знаете...
— Все знаю, потому и говорю вам, чтобы вы были поосторожнее... Я люблю вас как родную и искренне жалею.
— Кто же может желать обмануть меня? — недоумевала донна Аврора, до глубины души смущенная и встревоженная таинственными намеками старухи.
— Вы положительно бесподобны с вашей недогадливостью, моя дорогая. Ведь мы с вами заговорили о доне Мигеле, к нему, следовательно, и относятся мои предостережения.
— Относительно Мигеля они совершенно напрасны, сеньора, — гордо ответила донна Аврора. — Мигель никогда не обманывал и не обманет меня.
— Я была бы очень рада разделить вашу уверенность, но, к сожалению, мне известно кое-что.
— Вот как! Что же именно?
— У меня даже есть прямые доказательства... Скажите, вы ничего не знаете о Барракасе?.. Только говорите правду, дитя мое, от меня все равно ничего не скроется.
— Я знаю эту местность. Но что же общего между Барракасом и мной?
— Я опять-таки говорю не о вас, а о доне Мигеле.
— А!.. Но какое жe отношение имеет эта местность к дону Мигелю?
— Разве в Барракасе не живет двоюродная сестра дона Мигеля, донна Гермоза? Поняла теперь? — злорадничала достойная помощница Розаса, потрепав молодую девушку холодной и неопрятной рукой по розовой щеке.
— Да, я теперь поняла, на что вы намекаете, но остаюсь при своем мнении, что вы заблуждаетесь, — все также гордо сказала донна Аврора, хотя сердце ее готово было разорваться от боли, причиненной ядовитыми уколами злой старухи.
— Нет, я никогда ни в чем не заблуждаюсь! — с апломбом произнесла донна Мария Жозефа. — Кто посещает донну Гермозу, независимую вдову, живущую за городом? — Один дон Мигель! Как вы думаете, зачем красивый молодой человек посещает молодую, красивую и совершенно свободную в своих действиях кузину? Какая причина уединенной, замкнутой жизни, которую ведет кузина? Спросите об этом дона Мигеля; он один знает причину, потому что, кроме него, никто не бывает у этой женщины... Да, милочка, такова уж манера у современных молодых людей — делить свое время между всеми теми, кто поддается их ухаживанию... Но что с вами? Вам дурно?
— Нет, нет, сеньора! Вам это показалось? — храбрилась донна Аврора, страшно изменившись в лице, но не теряя самообладания.
— Ха-ха-ха!— язвительно засмеялась старуха. — Как будто я не вижу, что вы готовы упасть в обморок!.. Ха- ха-ха! Какие потешные эти молодые девушки с их влюбчивыми сердцами! А я сказала вам не все!
— Еще не все? Что же еще?
— Ну, зачем я буду мучить вас? На вас и так уже лица нет. Ха-ха-ха! Потеха с влюбленными, право, потеха! — издевалась над своей жертвой ехидная старая дева.
— Мне, однако, пора домой, позвольте проститься с вами, — по возможности твердым голосом сказала донна Аврора, чувствуя, что еще немного, и она, действительно, упадет в обморок.
— Бедненькая. Надерите ему хорошенько уши, чтобы он вас не обманывал. Ха-ха-ха!
— Прощайте же, сеньора!
— До свидания, милочка! Кланяйтесь вашей матушке и пожелайте ей скорого выздоровления, чтобы она могла навещать своих друзей... Да не забудьте насчет прелестной вдовушки] Ха-ха!
Продолжая смеяться, старуха проводила гостью до дверей на улицу.
Садясь в свой экипаж, донна Аврора, наконец, дала волю душившим ее слезам.
— Господи, что я за несчастная! — думала она. — Эта женщина знает все, что делается в Буэнос-Айресе, и я могу верить ей: у нее нет никакого расчета лгать мне... Я и сама давно замечаю, что Мигель совершает таинственные прогулки по вечерам, цель которых он скрывает, даже от меня... Так, например, он пропадал неизвестно где вчера с девяти часов вечера и явился домой только поздно ночью. Он думает, я этого не знаю... Почему он ни разу еще не предложил мне познакомиться с его кузиной?.. Мария Жозефа права: он, действительно, обманывает меня самым бессовестным образом... Ах, какая я несчастная!..
С помощью проснувшейся ревности молодая девушка начала отыскивать в каждом слове и поступке дона Мигеля подтверждение зароненного в ее душу подозрения, и, конечно, находила его. Прежде она без всякой задней мысли выслушивала похвалы дона Мигеля красоте, уму, доброте и прочим достоинствам его двоюродной сестры, а теперь она видела в этом прямое доказательство того, что он любит эту кузину вовсе не братской любовью, как уверял, а другой, той самой, в которой он клялся ей, Авроре.
Приехав домой и выплакавшись на свободе, благо матери не оказалось дома, девушка стала ожидать появления дона Мигеля, чтобы навсегда покончить с ним, она вовсе не желала делить его любовь с другой.
ССОРА И МИР
Около двух часов дня дон Мигель дель Кампо вышел из отеля министра иностранных дел дона Фелиппе д'Арана, и сел в свой экипаж.
К его величайшей радости, министру еще ничего не было известно о ночном беглеце.
Теперь дон Мигель направлялся к донне Авроре Барро, чтобы узнать о результате ее визитов к донне Августине Розас де-Манцилла и донне Марии Жозефе Эскурра.
Решившись освободить свое отечество от Розаса, дон Мигель поневоле должен был действовать скрытыми путями, хотя это было против его честного характера.
Дон Фелиппе Арана очень ценил дона Мигеля за его таланты, звания и ум, и потому нередко советовался с ним о делах и поручал ему переводы важных бумаг на французский язык, которым молодой человек владел в совершенстве. Вполне доверяя дону Мигелю, министр следовал его советам без всяких возражений и вообще слепо доверял ему.
В то время, когда молодой человек спешил к донне Авроре, она сидела в гостиной перед цветочным столом и машинально обрывала засохшие цветы и листья. В ушах ее все еще звучал резкий голос и насмешливый хохот донны Марии Жозефы; сердце ее сжималось от невыносимой боли при воспоминании о том, что ей наговорила отвратительная женщина относительно человека, которому девушка отдала свою душу.
Она так была погружена в свои горестные размышления, что не слышала, как отворилась дверь и кто-то вошел в комнату. Только прикосновение горячих губ к ее руке, лежавшей на краю стола, вывело ее из задумчивости.
— Мигель! — вскричала она, обернувшись и вскакивая со своего места.
Движение ее было так стремительно и на ее мертвенно-бледном лице выражалось такое презрение, что молодой человек остановился, как пораженный громом, вместо того, чтобы обнять ее, как он намеревался сделать и как всегда делал.
— Кабаллеро, — поправилась донна Аврора сдержанным, холодно-вежливым голосом, — матери моей нет дома.
— Кабаллеро?! Матери моей нет дома! — повторил дон Мигель в полном недоумения, не веря своим ушам. — Клянусь честью, Аврора, я совершенно не понимаю, что означают твои слова и твое странное поведение.
— Я хочу сказать, что я одна и в праве ждать от вас уважения, как к беззащитной девушке.
Дон Мигель покраснел.
— Аврора! — воскликнул он. — Скажи мне, ради Бога, шутишь ты надо мной, или я сошел с ума и вижу и слышу совсем не то, что есть в действительности?
— Вы лишились не ума, сеньор, а кое-чего другого.
— Другого?
— Да.
— Чего же именно, Аврора?
— Моего доверия и уважения, сеньор.
— Твоего доверия и уважения?!
— Да, сеньор... Впрочем, что вам в моем уважении и доверии! — с презрительной улыбкой добавила девушка.
— Аврора! — воскликнул дон Мигель, приближаясь к ней.
— Стойте, кабаллеро! — резко произнесла девушка с полным достоинства жестом, простирая руку вперед. — Дальше ни с места!
Проговорив эти слова, она спокойно заняла свое прежнее место, между тем как растерянный и смущенный молодой человек оперся рукой о спинку стоявшего перед ним кресла. Он весь дрожал и не находил, что сказать.
Прошло несколько минут тяжелого молчания. Наконец дон Мигель, овладев собой, проговорил:
— Сеньорита, надеюсь, что вы не откажете сообщить мне причину, по которой я так неожиданно для меня лишился вашего уважения и доверия.
— Я не нахожу нужным и даже считаю себя в праве не отвечать на ваш вопрос, сеньор, — сказала донна Аврора с тем высокомерием, которое женщины всегда выказывают к любимому человеку, когда считают себя оскорбленными им.
— Сеньорита, — продолжал дон Мигель, — если все, что вы сказали, — шутка, то я нахожу, что она продолжалась слишком долго, и прошу прекратить ее; если же это серьезно, то вы совершаете самую ужасную несправедливость.
— Я говорю совершенно серьезно и подчиняюсь всем последствиям сказанного мной, — сухо ответила молодая девушка.
Дон Мигель опять не нашелся, что сказать, и в полном отчаянии смотрел на свою собеседницу, вдруг так изменившуюся к нему.
Наступила новая пауза.
— Аврора, — почти робко вымолвил, наконец, молодой человек, — если я вчера так рано покинул вас, то только потому, что у меня было очень важное дело...
— Сеньор, я вас на привязи никогда не держала и не намерена была держать. Вы совершенно свободны в своих действиях.
— Благодарю вас, сеньорита.
— Не за что, кабаллеро. Позвольте лучше мне поблагодарить вас.
— За что, сеньорита?
— За ваше поведение, сеньор.
— За мое поведение?
— Вы, вероятно, только и способны сегодня на то, чтобы повторять мои слова! — насмешливо проговорила молодая девушка.
— Я повторяю их потому, чтобы лучше понять.
— Напрасный труд, кабаллеро!
— Почему же?
— Человек, имеющий не только два глаза и два уха, но и две души, должен понимать сразу все, что ему говорят.
— Аврора, — воскликнул дон Мигель, начиная раздражаться, — повторяю, вы совершаете страшную несправедливость по отношению ко мне! Я требую немедленного объяснения!
— Вы требуете?
— Да, сеньорита, требую!
— Не угодно ли вам будет доказать свое правотребовать.
— Аврора!
— Что прикажете, сеньор?
— Довольно, наконец, этой жестокой игры!
— Вы находите...
— Я нахожу, что если все это не игра, то избранный вами способ развязаться со мной совершенно недостоин таких людей, как вы и я. Три года глубокой, преданной любви к вам дают мне право узнать причину вашего странного поведения и просить вас объяснить мне, что дало вам повод так оскорблять меня.
— А! Вы теперь просите, а не требуете?.. Это дело другое, сеньор, — сказала донна Аврора, окидывая молодого человека презрительным взглядом.
— Если хотите, то прошу, сеньорита. Но имейте в виду, что я не уйду отсюда, пока вы не объясните мне значения всей этой сцены!— крикнул дон Мигель, с такой силой сжимая ручку кресла, что она треснула.
— Успокойтесь, пожалуйста, сеньор!— проговорила молодая девушка. — Мебель поставлена здесь не для того, чтобы вы ломали ее, притом вы напрасно изволите возвышать голос: во-первых, вы находитесь в присутствии дамы, а во-вторых, ваш голос может вам понадобиться в другом месте, здесь же вы совершенно непроизводительно тратите его.
Дон Мигель вздрогнул, точно его ударили по лицу.
— Боже мой! Боже мой! — простонал он, схватив себя за голову. — Если я еще не сошел с ума, то, наверное, скоро сойду!
Донна Аврора молчала, обрывая лепестки прекрасной махровой розы.
— Аврора, — снова начал молодой человек, опуская руки и глядя на девушку глазами, полными отчаяния, — я не ожидал от вас такой несправедливости!.. Объясните же мне, наконец...
— Что же вам объяснить? «Несправедливость» свою, что ли?
— Да... я все время только об этом и прошу.
— И глупо делаете, кабаллеро!.. В настоящую эпоху несправедливость вошла в обычай, просить же объяснения несправедливости строго воспрещено.
— Это, к сожалению, верно, сеньорита, но только в области политики; я же предполагал...
— Ну, договаривайте, что вы предполагали?
— Что мы с вами занимаемся вовсе не политикой.
— В таком случае вы сильно заблуждаетесь, сеньор.
— Как, сеньорита, вы думаете...
— Да, сеньор, я имею основание думать, что вы только ради интересов политики и поддерживали со мной отношения.
Дон Мигель понял, что собеседница упрекает его за услугу, о которой он просил ее своим письмом, написанным ночью. Этот удар, нанесенный его деликатности, заставил молодого человека покраснеть от стыда. Что же касается девушки, то она смотрела теперь на него более с жалостью, нежели с гневом.
— Я думал, — начал дон Мигель, — что донна Аврора Барро достаточно расположена к Мигелю дель Кампо, чтобы не счесть за труд какую бы то ни было услугу, особенно, если дело идет о жизни одного из его друзей, а может быть, и о его собственной.
— О, что касается последней, кабаллеро, то донне Авроре Барро это совершенно безразлично!
— Да, сеньора?
— Да, сеньор... Донна Аврора Барро отлично знает, что если сеньору дель Кампо будет угрожать какая-нибудь опасность, то у него есть прекрасное, скрытое убежище, вполне комфортабельное и охраняемое гением счастья, в котором он всегда может укрыться.
— У меня? Убежище?!
— Кажется, речь идет именно о вас, кабаллеро.
— Убежище, «охраняемое гением счастья», в которое я всегда могу укрыться? Где же это убежище, желал бы, я знать, сеньорита?
— Вы, очевидно, сегодня очень плохо понимаете по-испански, сеньор, поэтому я лучше, перейду на французский язык; быть может, на этом языке вы скорее поймете меня... Итак, сударь, повторяю вам по-французски, что у вас есть прекрасное убежище... грот Армиды... волшебный Дворец... Неужели вы и теперь еще не догадываетесь, о чем я говорю, господин дель Кампо?
— Нет! Это становится невыносимым!
— Напротив, сударь, по-моему, напоминание об этом волшебном убежище должно быть для вас очень приятно.
— Аврора! Пощадите меня, ради Бога.
— Ах, вам, вероятно, не понравилось, что я сравнила ваше тайное убежище с гротом Армиды? Ну, так назовем его островом Калипсо, а вас — Телемаком... Надеюсь, вы теперь довольны?
— Да, скажите мне толком, на что именно вы делаете такие... ядовитые намеки!
— Неужели вы все еще не догадываетесь, сеньор?
— Аврора, ведь это пытка!
— Вовсе нет... Это, напротив, очень приятное... развлечение.
— Да?
— Да... Я говорю о существовании вашего волшебного грота, дворца или острова, не знаю, какое из этих названий вам более нравится. Скажите, пожалуйста, сеньор, там действительно, очень хорошо?
— Да где же находится это...
— В Барракасе, кабаллеро, в Барракасе!
С этими словами молодая девушка встала, повернулась к дону Мигелю спиной и начала прохаживаться по гостиной, терзаясь ревностью, вновь со страшной силой проснувшейся в ней.
— В Барракасе?! — воскликнул дон Мигель, догоняя молодую девушку.
— Да, сеньор... Разве вы там не бываете? — спросила она, глядя на него через плечо. — Во имя нашей прежней... дружбы я советую вам все-таки лучше стараться не быть раненым, потому что как ни таинственно ваше, убежище, но оно легко может быть открыто посредством докторов, аптекарей...
— Аврора! Ты положительно убьешь меня, если не объяснишь своих более чем странных слов!
— Не умрете, сеньор!.. Воспоминание о вашем счастье поддержит вас... Смотрите только, избегайте ран в, левое бедро: говорят, это очень опасно, в особенности, когда раны наносятся солдатской саблей!
— Господи! Они погибли! — не своим голосом крикнул дон Мигель, закрывая лицо руками.
Снова наступило тягостное молчание между этими двумя молодыми людьми, которые раньше так горячо любили друг друга, а теперь были готовы отречься от своего чувства, благодаря злому духу, воплотившемуся в донне Марии Жозефе и вонзившему в сердце неопытной девушки ядовитое жало ревности.
Вдруг дон Мигель порывистым движением бросился на колени перед донной Авророй, обхватил ее тонкую талию и, поднял на нее свои прекрасные, отуманенные горем глаза, проговорил задыхающимся голосом:
— Именем Бога заклинаю тебя, Аврора, разъяснить мне тайну твоих слов!.. Я люблю тебя! Ты моя первая и единственная любовь. Ни одна женщина в мире не может быть любима так, как люблю тебя я! Но, увы, в эту минуту, когда над головами нескольких ни в чем неповинных людей, быть может, и над моей, висит смерть, не время говорить о любви!.. Я забочусь не о своей жизни, — я давно уже ставлю ее на карту каждый день, каждый час, каждую минуту; я давно борюсь с врагом, силы которого в сравнении с моими громадны. Нет! Я боюсь за... Слушай, Аврора: твоя душа — моя душа, доверяя тебе свою тайну, я доверяю ее все равно, что Богу... Видишь что, моя дорогая: дело идет о жизни Луиса и Гермозы; они оба в смертельной опасности, и если умрут они, должен буду умереть и я. Кинжал, который пронзит сердце Луиса и Гермозы, не может миновать и моей груди.
— Мигель! — вскричала донна Аврора, нагибаясь к нему и крепко обхватывая ему голову своими маленькими руками, как бы желая защитить ее таким образом от смерти, — мой дорогой Мигель!
Лицо, глаза, голос и речь молодого человека дышали такой искренностью и любовью, что молодая девушка не имела сил не поверить ему.
— Да, — продолжал он, не меняя своего положения, — Луис был в эту ночь под ножом убийцы. Мне удалось спасти его, полумертвого... Убийцы были агентами Розаса... Нужно было скрыть его, но в моем, а тем более в его доме этого никак нельзя было сделать...
— Луис едва не был убит! — вскричала молодая девушка. — Боже, какой ужасный день для меня!.. Но он не умрет, Мигель? Ведь нет?
— Нет, раны его не слишком опасны... Но, слушай дальше. Я отвез его к Гермозе... Ты знаешь, что это моя единственная родственница со стороны матери и, вместе с тем, единственная женщина — после тебя, конечно, — которую я люблю, но опять-таки не такой любовью как тебя, а любовью брата, понимаешь?.. О, силы небесные! Может быть, я погубил ее, чтобы спасти другого человека!
— Как?! Чем погубил? — приставала Аврора, тряся за плечи дона Мигеля, слова которого начинали пугать ее.
— Разве ты не знаешь, что при Розасе милосердие равносильно преступлению?.. Я теперь понял смысл твоих намеков: Луис находится в Барракасе, а ты упомянула об этой местности. Он ранен солдатом в левое бедро, а ты говоришь...
— О, нет, нет, они ничего не знают! — перебила донна Аврора с радостной улыбкой. — Им пока еще ничего неизвестно, но они могут узнать все. Вот слушай... только сначала встань.
Совершенно успокоенная, она помогла своему возлюбленному подняться на ноги и, сев вместе с ним на софу, передала свою беседу с донной Марией Жозефой.
Дон Мигель внимательно выслушал ее, не прерывая ни одним словом. Когда молодая девушка повторила все, что ей сообщила сеньора Эскурра, он воскликнул:
— О, негодяйка!.. Все это семейство состоит из воплощенных демонов!.. У всех этих родственников Розаса в жилах течет вместо крови яд. Где они не могут или не находят удобным убивать кинжалом, там пускают в ход орудие клеветы... Воображаю, с каким наслаждением тебя мучила Мария Жозефа!.. Аврора, — продолжал он, взяв руку девушки, — неужели ты серьезно могла поверить ее словам? Ведь все, что она наговорила обо мне, было сказано с единственной целью подвергнуть тебя нравственной пытке и, кстати, разлучить нас с тобой.
— Может быть и так, Мигель, а может быть, она... нечаянно... немножко права.
Девушка была в настоящую минуту вполне уверена в полной невиновности своего возлюбленного, но, как женщина, она не хотела так скоро сознаться, в этом.
— Ты все еще сомневаешься во мне, Аврора? — спросил с упреком молодой человек.
— Мигель, я хочу познакомиться с Гермозой и видеть все собственными глазами, — сказала вместо ответа Аврора.
— Хорошо, я познакомлю тебя с ней.
— Этого мало: я хочу поближе сойтись с ней.
— И это можно...
— Я хочу, чтобы это было скорей... на этой же неделе...
— Это тоже можно... Не желаешь ли еще чего-нибудь, Аврора?
— Более ничего, — ответила обрадованная девушка, слегка пожимая его руку.
Во всякое другое время молодой человек ответил бы на это пожатие пламенными поцелуями, но на этот раз он был слишком занят мыслью о своем друге, и не мог изливаться в нежностях.
— Так ты уверена, что Кордова не дал никаких точных сведений о Луисе? — озабоченно спросил он.
— Вполне уверена, об этом сеньора Эскурра уже не могла солгать. Ей слишком хотелось показать мне всю силу своего хищнического таланта, чтобы...
— О, да, я знаю эту ее страсть!.. До свидания, моя дорогая! К сожалению, я должен расстаться с тобой и без всякой надежды увидеть тебя сегодня еще раз.
— Даже вечером, Мигель?
— Увы, даже вечером, милая Аврора!
— Вы, вероятно, опять отправляетесь в Барракас?
— Да, Аврора, и возвращусь оттуда очень поздно. Неужели ты желаешь, чтобы я покинул Луиса и Гермозу, которую подверг такой опасности, заставив ее принять в свой дом политического преступника?.. И неужели тебе самой не жаль Луиса? Ведь ты называешь его своим братом.
— Иди с Богом, мой благородный и великодушный Мигель, и прости меня, — прошептала девушка, низко опустив на грудь свою маленькую головку, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.
— Я вижу, что ты еще не веришь мне, Аврора! — с упреком воскликнул дон Мигель.
— Иди, иди и постарайся спасти Луиса, вот все, что я сегодня могу сказать тебе, Мигель.
— А ты, моя дорогая, вот возьми, в виде вознаграждения за то, что мы сегодня не можем увидеться, эту вещь, которую я никогда не снимал со своей груди; дороже ее у меня ничего нет, — сказал молодой человек, снимая с шеи хорошо знакомую Авроре цепочку, сплетенную из волос его покойной матери.
Этот подарок, который, действительно, был ценнее всего, что мог дать дон Мигель, несмотря на свое громадное состояние, до глубины души тронул девушку. Закрыв руками лицо, пока молодой человек надевал ей на шею цепочку, она снова заплакала, но на этот раз слезами раскаяния, счастья и радости.
Ревность исчезла из ее сердца, снова уступив место любви и доверию.
Дон Мигель распростился и ушел, а донна Аврора долго сидела на месте, покрывая горячими поцелуями оставленную ей драгоценность.
ПРЕЗИДЕНТ САЛОМОН
Возле церкви св. Николая, на перекрестке улиц Корриентес и дель Черрито, стоял старый дом с маленькими окнами и крылечком в две ступени. На верхней ступени каждый вечер можно было видеть хозяина дома. Куря одну папиросу за другой, он подолгу сидел на крыльце, занимаясь наблюдением прохожих.
Это был старик лет под шестьдесят, высокого роста и такой толщины, что самый жирный бык, представляемый ежегодно на карнавальный конкурс, показался бы худощавым в сравнении с ним.
Он и брат его, Хеннаро, кроме дома, получили в наследство от отца лавку возле этого домика и фамилию Ганзалес. Хеннаро, как старший, стал заведовать торговлей и был за что-то прозван уличными мальчишками своего квартала Соломоном. Имя мудрого царя израильского ему почему-то страшно не нравилось, так что когда кто-либо из покупателей называл его этим именем, он приходил в неописуемую ярость и лез в драку. Будучи капитаном милиции, Хеннаро во время мятежа в 1823 году имел несчастье быть расстрелянным. После него остались вдова, Мария Ризо и дочь, по имени Кинтина.
Таким образом, владельцем лавочки и дома остался младший брат, Хулиан Гонзалес, которому, в противоположность Хеннаро, так понравилось имя Соломон, что он присвоил его себе и стал подписываться не иначе, как Хулианом Гонзалесом Саломоном, изменив лишь в первом слове букву «о» на «а».
Хулиан Саломон был именно тот самый старик, который любил сидеть каждый вечер на крыльце своего дома с папиросой в зубах. Он тоже служил в милиции и повышался в чинах с такой же быстротой, с какой увеличивался в объеме. Буря, поднявшая при выборе диктатором генерала Розаса всю аргентинскую грязь, была так сильна, что легко приподняла даже такую массу жира, какую представлял собой Хулиан Гонзалес Саломон, и вознесла его на высоту положения полковника милиции; затем он попал в кресло президента Народного общества, символом которого служил маисовый колос, в подражание одному древнему испанскому обществу, преследовавшему чисто гуманитарные цели.
В четыре часа пополудни, пятого мая 1840 года перед домом Хулиана Гонзалеса Саломона тянулся длинный ряд верховых лошадей в пунцовых попонах и с пучками красных перьев на головах. Такой убор был предписан федеральным правительством. Владельцы этих лошадей мало-помалу наполняли небольшую залу дома Саломона. Все они были одеты одинаково — в синие камзолы и красные жилеты, на головах у них красовались одинаковые черные шляпы с широкими красными лентами, а за поясом у каждого виднелся громадный кинжал, рукоятка которого выступала из-под камзола на правом боку. Даже лица у всех были удивительно однообразны. Все эти физиономии, с густыми усами и расходившимися под подбородком бакенбардами, были из тех, которые встречаются повсюду во времена народных восстаний, а затем бесследно исчезают неизвестно куда.
Одни из собравшихся сидели на соломенных стульях, другие поместились на подоконниках, а некоторые взобрались даже на стол, покрытый пунцовой скатертью. На этом столе сеньор Саломон подписывал свои протоколы и декреты, причем чернильницей служила ему старая помадная банка.
Все курили, так что по залу ходили целые облака синего табачного дыма.
Самого президента еще не было. Он сидел в смежной комнате, на краю громадной постели и с геройским усилием зубрил наизусть речь, состоявшую из двадцати слов. Эту речь чуть ли не в сотый раз заставлял его повторять человек, составлявший с ним крайнюю противоположность и телом и душой, а именно наш знакомец — дон Мигель дель Кампо.
— Ну, теперь, кажется, я знаю ее, — заявил Саломон, отирая большим красным бумажным платком свой лоб, сильно вспотевший от умственного напряжения.
— Знаете, — подтвердил дон Мигель. — У вас, полковник, прекрасная память...
— Да? Но... все-таки я попрошу вас сесть возле меня и подсказывать мне потихоньку, если я забуду какое-нибудь слово.
— Само собой разумеется! Не забудьте только, полковник, в самом начале представить меня своим друзьям и предупредить их о том, что я вам передал.
— Обязательно представлю и скажу, что нужно, будьте покойны. Идем!
Президент Саломон и дон Мигель — последний тоже весь в черном и с большим федеральным значком на груди, но без перчаток — вошли в зал.
— Здравствуйте, сеньоры! — произнес полковник Саломон с важным и напыщенным видом, становясь возле своего места.
Собравшиеся в один голос ответили на приветствие президента, причем некоторые называли его полковником, другие президентом, третьи товарищем, смотря по тому, как кто привык обращаться к нему.
На дона Мигеля почтенное собрание глядело очень враждебно: слишком уж мало у него было федеральных отличий и чересчур благородный вид.
— Сеньоры, — продолжал Саломон, — имею удовольствие представить вам дона Мигеля дель Кампо, гасиендеро и федерального патриота... я обязан ему множеством услуг, оказанных и мне. Он такой же добрый федералист, как и его отец... Они оба желают вступить в наше общество, как только его отец приедет в Буэнос-Айрес. Пока же он просит только позволения участвовать иногда в наших федеральных ману... мане... манифестациях (дон Мигель шепотом подсказал ему это трудное слово). Открываю собрание, сеньоры. Да здравствует федерация!
— Да здравствует наш знаменитый реставратор! Да погибнут гнусные, омерзительные французы! Да погибнет король Луи-Филипп! Да погибнут отвратительные и гнусные унитарии, продавшие себя французам, за их презренное золото! Да погибнет изменник-идиот Ривера!
Эти восклицания, произнесенные Саломоном громовым голосом, хором были подхвачены всеми присутствовавшими, размахивавшими при этом своими громадными кинжалами.
Когда окончился взрыв патриотических чувств, Саломон опустился на свое место, пригласив дона Мигеля сесть по левую руку, между тем как по правую сел его секретарь Бонео.
— Сеньор, секретарь, — обратился к нему Саломон, откинувшись па спинку стула, — прочтите список присутствующих сеньоров.
Бонео взял лежавшую на столе бумагу и прочел вслух имена, которые за несколько минут перед тем отметил карандашом. Их было девятнадцать.
— Все? — спросил Саломон, когда Бонео кончил.
— Да, это все присутствующие, — ответил секретарь,
— Теперь прочтите список отсутствующих членов.
— То есть список всего общества?
— Да, сеньор. Мы как добрые федералисты должны всегда знать, кто присутствует и кто отсутствует, как это делается в палате представителей. Читайте.
Бонео прочел список всех членов Народного общества, которых оказалось сто семьдесят пять человек разных сословий и профессий.
— «Отлично! — подумал про себя дон Мигель. — Теперь я знаю всех! Знаю даже, что некоторые из этих членов вовлечены в Mac-Горку насильно».
Видя, что Саломон забыл, что ему следовало делать дальше, дон Мигель потихоньку толкнул его локтем.
Толстяк встрепенулся и продолжал:
— Сеньоры, федерация принадлежит знаменитому реставрадору; поэтому мы должны пожертвовать, в случае надобности, даже своей жизнью для нашего знаменитого реставрадора законов и никогда не забывать, что мы — столпы святой федерации.
— Да здравствует знаменитый реставрадор законов! — вскричал один из присутствующих.
Остальные дружным хором подхватили этот возглас.
— Да здравствует его достойная дочь, сеньорита Мануэлита Розас-Эскурра! — продолжал Саломон. — Да здравствует герой пустыни, великий реставрадор законов, ваш отец и учредитель федерации! Да погибнут гнусные французы и их нечестивый король!
Когда все эти возгласы были несколько раз повторены, президент начал затверженную им речь:
— Сеньоры, для того, чтобы наш знаменитый реставрадор мог спасти федерацию от... мог спасти федерацию от... Для того, чтобы наш знаменитый реставрадор мог спасти федерацию от...
— От неминуемой опасности, — шепотом подсказал дон Мигель.
— От неминуемой опасности, в которой она находится, мы должны... должны рез... должны преследовать всех унитариев на смерть и стараться, чтобы ни одного из них не осталось в живых.
— Да погибнут гнусные дикари, отвратительные унитарии! — рявкнул один из членов, Хуан Мануэль Ларрасабаль, махая кинжалом над головой.
Остальные члены собрания повторили его рев, размахивая в свою очередь кинжалами.
— Сеньоры, мы обязаны преследовать их всех без всякого снисхождения! — продолжал Саломон.
— Да, всех без различия пола! — подхватил Ларрасабаль, казавшийся восторженнее прочих и подававший пример другим.
— Я думаю, что наш знаменитый реставрадор не может быть доволен нами, потому что мы служим ему не так, как следует, — продолжал президент. — Мы...
— Теперь пора перейти к событию прошлой ночи, — шепнул ему дон Мигель, нагибаясь поднять платок, который он нарочно уронил.
— Теперь пора перейти к событию прошлой... — как попугай начал повторять толстяк.
Но дон Мигель дернул его за камзол. Саломон остановился, глупо взглянул на него, потер лоб рукой и медленно, с расстановками, загнусавил:
— Сеньоры! Нам известно, что в прошлую ночь опять несколько дикарей-унитариев пытались улиз... бежать в армию изменника Лаваля, но они не преуспели в этом благодаря расторопности коменданта Куитино, который поступил, как подобает доброму федералисту. Однако, одному из этих гнусных унитариев удалось улиз... скрыться неизвестно куда. Подобные случаи ежего... гм... ежедневно будут повторяться, если мы не при... гм... не примемся защищать федерацию, как следует. Я созвал вас сегодня для того, чтобы мы снова могли повторить друг перед другом клятву всеми силами преследовать гнусных дикарей-унитариев и препятствовать им удира... гм... их бегству в Монтевидео, к низкому изменнику JIa... гм... Ривере, или в Энтре-Риос, к такому же изменнику Лавалю... или же в... гм... к французам, презренное золото которых так прельщает их. Такова воля нашего знаменитого реставрадора... Итак, я провозглашаю: да здравствует знаменитый реставрадор и да погибнут все враги нашей святой федерации!
— Смерть гнусным дикарям-унитариям! — заревел Ларрасабаль, страшно вращая глазами и размахивая кинжалом.
Эти дикие возгласы повторялись не только всем собранием в зале, но и толпой зевак, стоявших на улице перед домом.
— Я прошу слова, — сказал комендант Куитино, находившийся в число присутствовавших в зале.
— Говорите, — разрешил Саломон, сворачивая громадную папиросу.
— Прошедшей ночью, — начал комендант, — я имел счастье ужинать у знаменитого реставрадора и его дочери, донны Мануэлиты Розас-Эскурра. Реставрадор — истинный отец федерации. Признавая это, клянусь поступать со всеми унитариями, которые попадутся мне в руки, так, как я поступил с теми, которых мне удалось захватить прошлой ночью. Положим, одному из них дьявол помог ускользнуть от меня, но на нем остались такие знаки, оставленные нашим оружием, что его не трудно будет разыскать. Памятуя, что все добрые федералисты, к какому бы полу они ни принадлежали, должны всеми силами помогать реставрадору в его трудном деле — охране федерации, я сообщил уже об этом беглеце донне Марии Жозефе, которая заведует розысками беглецов. Вот их гнусная кровь.
При последних словах Куитино обнажил свою саблю и указал на запекшуюся на ней кровь. В ответ на это собрание снова замахало кинжалами и разразилось бешеными криками по адресу унитариев, изменников и французов.
Дон Мигель молча наблюдал эту сцену, отмечая каждую подробность в своей памяти и соображая, какую он может извлечь пользу для своего дела из того, что видит и слышит.
Переждав, когда расходившиеся масгорковцы несколько поутихли, он встал и тоже попросил слова.
— Говорите! Говорите! — закричало несколько голосов вслед за президентом.
— Сеньоры, — начал молодой человек, к сожалению, я еще не имею чести принадлежать к вашему знаменитому, высокопатриотическому обществу, но надеюсь вскоре удостоиться этой великой чести. Мои убеждения и мои связи известны всем, поэтому о них я распространяться не буду. Скажу только, что со временем надеюсь оказать знаменитому реставрадору законов и федерации такие же услуги, какие ему оказывают в настоящее время члены Народного общества, справедливо пользующегося такой громкой славой не только в Аргентинской республике, но и во всей Америке.
Раздался взрыв рукоплесканий и гул восторженных криков.
— Прошу принять во внимание, уважаемые сеньоры, — продолжал дон Мигель, — что мои похвалы могут относиться только к присутствующим членам Мас-Горки. Хотя нельзя отрицать патриотического чувства и во всех остальных членах ее, но в действительности одни вы, сеньоры, постоянно находитесь на своем посту и каждую минуту готовы поддерживать нашего знаменитого реставрадора. Это заключение я вывожу из того факта, что остальные члены не являются на зов своего высокоуважаемого президента, сеньора дона Хулиана Гонзалеса Саломона. Федерация не признает никаких привилегий: адвокаты, торговцы, чиновники, простые служители — все мы здесь равны между собой, и когда созывается общее собрание или когда нужно сделать что-нибудь для его превосходительства сеньора реставрадора, мы все обязаны являться немедленно, бросив свои личные дела. Я допускаю, что и отсутствующие в душе добрые федералисты, но ведь и присутствующие не презренные унитарии, чтобы первые могли выказывать к последним презрение, не присоединяясь к ним. Говоря это, я убежден, что то же самое сказал бы и его превосходительство знаменитый реставрадор, мнение которого должно быть особенно уважаемо.
Удар, нанесенный доном Мигелем отсутствующим членам, попал очень метко, и энтузиазм, произведенный его речью, превзошел все его ожидания. По адресу отсутствующих федералистов посыпался град ругательств, перемешанных с дикими угрозами. Имена неявившихся начали повторяться с такой враждой, точно это были имена не масгорковцев, а скрывающихся унитариев.
Дон Мигель поощрял эту вражду, кивая головой и насмешливо улыбаясь.
— «Вот это хорошо! — говорил он про себя. — Погодите, голубчики, я так науськаю вас друг на друга, что, вы сами себя истерзаете в клочья!»
Увещав собрание еще раз тщательней следить за унитариями и зорко наблюдать за всеми пунктами реки, где они могли бы сесть на суда, Саломон среди нового взрыва энтузиазма, объявил собрание закрытым.
Полузадушенный федеральными объятьями, с измятыми от крепких пожатий масгорковцев руками, дон Мигель вышел на крыльцо. Саломон проводил его до улицы и не знал, как благодарить за оказанную помощь. Здесь молодой человек простился с ним и сел на свою лошадь, которую держал Тонилло.
— В девять часов, — лаконично шепнул он своему слуге.
— Там же? — так же кратко и тихо спросил последний.
— Да.
Пришпорив лошадь, дон Мигель крупной рысью направился к Барракасу и доехал до улицы Буэн-Орден в то время, когда угасали последние лучи солнца.
Несмотря на множество волновавших его со вчерашнего вечера мыслей и ощущений, молодой человек не мог удержаться, чтобы не остановить лошадь и не полюбоваться с этой высоты великолепной панорамой, расстилавшейся у его ног. И, действительно, было чем полюбоваться. Цветущая долина Барракаса с извивающейся по ней серебряной лентой реки и с зеленой эспланадой налево — одна из живописнейших местностей вокруг Буэнос-Айреса.
Дон Мигель начал уже спускаться с горы, как вдруг услышал голос, звавший его по имени. Обернувшись, он увидел шагах в двадцати от себя достойного учителя каллиграфии, который спешил к нему, держа в одной руке шляпу, а в другой — палку. Добежав, наконец, до своего бывшего ученика, дон Кандидо так запыхался, что некоторое время не мог выговорить ни слова.
— Что с вами, дон Кандидо? Что случилось? — спрашивал молодой человек, испуганный бледностью лица и странным видом старика.
— Нечто ужасное... варварское... дикое... совершенно беспримерное... в летописях истории преступлений! — с трудом выговорил тот.
— Сеньор, не забудьте, что мы на большой дороге. Говорите тише, скорее и короче, — прошептал дон Мигель.
— Помнишь, я говорил тебе о благородном, добром и великодушном сыне моей домоправительницы?
— Помню. Что же с ним?
— Помнишь, я говорил, что он приезжал нынешней ночью...
— Помню, помню. Говорите ради Бога скорей, что с ним случилось?
— Его расстреляли! Да, мой дорогой и уважаемый Мигель, его рас-стре-ля-ли!!
— Как?.. Когда?.
— В семь часов утра, как только узнали, что он отлучился из дома губернатора. Должно быть, побоялись...
— Что он открыл или откроет кому-нибудь тайну депеш, которые привез? — договорил молодой человек.
— Да, да!.. И если так, то я погиб, пропал!.. Что мне теперь делать, дорогой Мигель?.. Что мне делать? — и ужасе лепетал несчастный старик, бледный, как смерть, дрожа с головы до ног.
— Очинить ваши перья и вступить завтра в должность домашнего секретаря к сеньору министру иностранных дел, — хладнокровно ответил дон Мигель.
— О, Мигель, так ты... думаешь, что это... еще возможно для... меня? — просияв от радости вскричал дон Кандидо.
— Кто же может воспрепятствовать этому? Будьте покойны, поступите. То, о чем мы говорили с вами утром, остается в силе и сейчас.
— О, Мигель! О, мой благородный, великодушный спаситель! — восклицал старик, покрывая поцелуями руку молодого человека.
— Ну, довольно, довольно! — остановил его тот, отнимая руку. — Поверните скорее на первую попавшуюся улицу и возвращайтесь с Богом домой.
— Я приходил к тебе, когда ты только что уехал к полковнику Саломону, как мне сказал твой конюх. Я отправился туда, к церкви, и сидел на паперти, пока не увидел тебя уезжающим по этой дороге... Я все время бежал за тобой, но не решался окликнуть до этого места. Хорошо еще что ты остановился, иначе мне ни за что было бы не догнать тебя, — трещал дон Кандидо, заметно оживившись и забыв о своем недавнем страхе.
— Видно, yж так Бог устроил на ваше счастье, — с улыбкой произнес дон Мигель. — Но вот еще что. Есть у вас какой-нибудь хороший знакомый, у которого вы когда-нибудь ночевали?
— Как же, есть. Вот, например...
— Так вот, ступайте прямо к нему и на всякий случай попросите его показать, что вы провели у него вчерашнюю ночь. Поняли?.. Ну, а теперь прощайте, сеньор!
С этими словами дон Мигель пришпорил лошадь и галопом поскакал по той самой дороге, которой вез прошлой ночью своего друга, дона Луиса Бельграно.
Дон Кандидо в недоумении смотрел несколько мгновений ему вслед, потом ударил себя по лбу и с веселым видом направился в противоположную сторону.
ТРИ КЛЮЧА К ОДНОЙ ДВЕРИ
На колокольне церкви Сан-Франциско пробило пять часов вечера. Атмосфера была пропитана тем густым и сырым туманом, который так часто бывает зимой, весной и осенью в Буэнос-Айресе.
Торговая улица, в которой, несмотря на ее название, нет ни торговли, ни торговцев, была почти пуста. В числе немногих прохожих шли двое мужчин, поспешно направлявшихся к реке. Один из них был в синем плаще, коротком и без воротника, похожем на те плащи, которые в старину носили испанцы и благородные венецианцы; другой был в длинном белом камзоле.
— Скорее, скорее, дон Кандидо! — говорил тот, на ком был плащ. — Прибавляйте шагу, иначе мы опоздаем.
— Если бы мы вышли пораньше, нам не нужно было бы так спешить,— возражал другой, взяв под мышку трость с набалдашником из слоновой кости.
— Это не моя вина, а вина здешнего климата, могущего поспорить своими капризами с любой женщиной. — Недавно небо было еще совсем голубое, и я рассчитывал, что сумерки будут продолжаться по меньшей мере полчаса. Но вдруг оно сплошь покрылось тучами, и я обманулся в своем предположении... Впрочем, не беда: вы только ускорите свою работу.
— Ускорить работу?
— Ну, да.
— Какую же работу?
— Сейчас узнаете, дорогой учитель, а пока не отставайте от меня.
— Можно сказать тебе несколько слов, дорогой и уважаемый Мигель?
— Говорите, если хотите, только не останавливаясь.
— Не останавливаясь? Как же это? В каком смысле надо это понимать?
— В том смысле, что если вы можете говорить на ходу, не задерживая ни себя, ни меня остановками, то говорите.
— Ах, так! Конечно, могу и на ходу...
— Так в чем же дело?
— Да видишь что, в глубине моего сердца таится глубокий, справедливый и вполне основательный страх.
— О, сеньор, вы вечно таскаете с собой совершенно излишний балласт!
— Опять метафора! Какой же именно, дорогой Мигель?
— Неистощимый запас прилагательных и непомерную трусость.
— Так что ж из этого! Запасом прилагательных я могу гордиться, как доказательством моего основательного знакомства с нашим богатым, плодовитым и красноречивым языком, а то, что ты называешь трусостью, я приобрел только в последние годы по примеру других жителей Буэнос-Айреса...
— Ну, теперь молчок и идите тише! — перебил дон Мигель, поворачивая на улицу Кочабамбу.
Прикусив язык, дон Кандидо взял свою трость в правую руку и медленно последовал за своим спутником.
Они дошли почти до самой реки. У предпоследнего дома с правой стороны дон Мигель остановился и сказал:
— Обернитесь осторожнее и посмотрите, не идет ли кто за нами.
Дон Кандидо будто нечаянно выронил за своей спиной из руки трость и, конечно, должен был обернуться, чтобы поднять ее.
— Нет, никого не видать, дорогой Мигель, — сказал он.
Молодой человек молча открыл входную дверь дома, перед которым стоял. Отворив дверь, он приказал дону Кандидо войти в дом и сам юркнул вслед за ним в темные сени, после чего опять запер дверь уже изнутри и положил ключ в карман.
— Боже мой, — прошептал старик дрожащим голосом, — куда это ты меня привел? Что ты хочешь делать со мной, Мигель?
— Привел в самый обыкновенный дом, где живут такие же люди, как и мы с вами; резать вас здесь не будут, — спокойно ответил дон Мигель и добавил, войдя в приемную:
— Подождите здесь и не бойтесь ничего.
В комнатах еще было настолько светло, что можно было обойтись без огня.
Дон Мигель тщательно осмотрел весь дом, чтобы убедиться, что в нем никого не было. Потом он черным ходом вышел во двор, приставил лестницу к стене и взобрался на крышу. Осмотрев окрестности, он не заметил ничего подозрительного.
Спустившись вниз и поставив лестницу на место, молодой человек вбежал в дом и крикнул:
— Ну, милейший дон Кандидо, надеюсь, вы еще живы?
— Голубчик, Мигель! Зачем ты оставил меня одного? — жалобно откликнулся старик, идя на голос своего бывшего ученика.
— Оставаться одному гораздо лучше, чем находиться в обществе дурных людей, — возразил дон Мигель. — Но, однако, болтать некогда.
— Но что это за дом? Ты говорил, в нем живут, а я не слышу ни малейшего движения. Это точно какая-то могила! Что значит эта таинственность, Мигель? Я боюсь, что мне не только не видать должности домашнего секретаря его превосходительства министра ино...
— Сеньор дон Кандидо, вы не отрицаете, что распространили известие о возмущении Ла-Мадрида?
— Мигель, дорогой мой! Да ведь я говорил это только одному тебе...
— Рассказывать о таких вещах одному лицу или всему городу, — разве это не одно и то же?..
— Господи!.. Мигель, неужели, ты хочешь погубить меня?! — завопил старик, порываясь броситься в ноги молодому человеку, но тот сказал ему:
— Напротив, дон Кандидо, желая спасти вас, я доставляю вам должность, за которую многие охотно заплатили бы большие деньги.
— А я за нее отдам тебе свою горькую, сиротскую, исполненную тревог и печалей жизнь!— с пафосом воскликнул дон Кандидо, стараясь заключить дона Мигеля в свои дрожащие объятия.
— О, я потребую от вас гораздо меньше, — сказал молодой человек, слегка отстраняя его. — Теперь пожалуйте на работу, она будет непродолжительна; самое большее, если на нее потребуется минут десять-пятнадцать.
— О, Господи! Да я готов проработать год, два, лишь бы...
Пока старик говорил это, дон Мигель вывел его во двор, приставил снова лестницу к стене и сказал ему:
— Залезайте.
— Куда это я должен лезть? — недоумевал дон Кандидо, вытаращив глаза.
— Вы видите — на крышу.
— Да зачем?
— Залезайте же, говорят вам!
— Ну вот я и влез. Что дальше?
— А вот и я, — проговорил дон Мигель, быстро поднявшись вслед за стариком. — Теперь сядем здесь и...
— Но, друг мой...
— Сеньор дон Кандидо, вы желаете...
— Ну, хорошо Мигель, хорошо... не сердись. Я сяду. Ну вот я сел?!
Молодой человек вынул из кармана лист бристольской бумаги, компас и карандаш, разложил бумагу возле себя на крыше и сказал голосом, не допускавшим возражения:
— Сеньор дон Кандидо, потрудитесь начертить мне план окрестностей этого дома. Постарайтесь окончить его, пока еще не совсем стемнело.
— Но, Мигель...
— Чертите одни контуры: подробностей не нужно. Мне необходимо знать только относительное положение этих окрестностей. Скорее, скорее, дон Кандидо! Через десять минут, чтобы все было готово. Я буду ждать вас внизу, в прихожей.
Дон Кандидо весь похолодел. Уединенность места и таинственность поведения его бывшего ученика производили в нем такое ощущение, точно ему к горлу уже приставили один из тех громадных кинжалов, которыми члены Mac-Горки убивали унитариев. Он понимал, что дон Мигель втягивает его в очень опасную игру, но не имел сил сопротивляться молодому человеку, который всегда производил на него неотразимое влияние и у которого он теперь находился в руках, благодаря своей болтовне о генерале Ла-Мадриде.
Глубоко вздохнув, старик дрожащими руками принялся набрасывать план.
Ровно через десять минут план был готов, и старик спустился с крыши.
— Вот и отлично!— сказал молодой человек, бросив взгляд па бумагу. — Подождите минутку, я только пойду и поставлю на место лестницу.
— Потом мы уйдем отсюда, милый Мигель, да? — поспешно осведомился дон Кандидо.
— Уйдем, уйдем, будьте спокойны.
— План нужно бы немного исправить. Он...
— Вы исправите его ночью, а утром принесете мне, — ответил дон Мигель уже из соседней комнаты, направляясь к черному ходу.
Через минуту молодой человек возвратился и пригласил старика с собой в сени. Но только он хотел вложить ключ в замок наружной двери, как дверь растворилась так стремительно, что дон Кандидо едва успел отскочить и прижаться к стене, а дон Мигель — отступить на два шага и поднести руку к грудному карману камзола. Впрочем, это движение было скорее инстинктивное нежели сознательное, он уже несколько минут ожидал, что эта дверь отворится и в нее войдет женщина, даже несколько женщин, но никак не мужчина. Однако вошел мужчина. В одно мгновение в руке молодого человека очутилось какое-то странное оружие, и он стал ожидать, что будет дальше.
Так неожиданно появившийся незнакомец сделал то же самое, что не задолго перед тем сделал дон Мигель, то есть запер дверь и положил ключ к себе в карман.
Дрожа как осиновый лист, дон Кандидо делал страшные усилия, чтобы прижаться к стене как можно плотнее. Благодаря царствовавшему в сенях мраку, незнакомец никого не видел. Только проходя в приемную комнату, он задел рукой за грудь дона Кандидо. Шарахнувшись в сторону и вытаскивая из-за пояса длинный кинжал, он громко крикнул:
— Кто тут?
Ответом на это было глубокое молчание.
— Кто тут? — повторил незнакомец. — Отвечайте, иначе я убью вас как унитария! Одни только унитарии способны устраивать засады защитникам федерации!
Новое молчание.
— Да кто же вы?.. Говорите, если не хотите, чтобы я навеки лишил вас языка! — продолжал неизвестный, прижавшись в свою очередь к двери и вытянув вооруженную руку вперед.
— Я ваш покорнейший слуга, почтеннейший сеньор, которого я, к сожалению, не имею чести знать, но тем не менее готов глубоко уважать, — трепещущим голосом пропищал дон Кандидо.
— Поняв, с каким трусом имеет дело, незнакомец мгновенно ободрился.,
— Но кто же вы? — понизив голос и тон, снова осведомился он.
— Ваш покорнейший слуга, сеньор...
— Это очень приятно слышать! Но ваше имя?
— Сделайте одолжение, отворите мне дверь и выпустите меня, добрый и глубокоуважаемый сеньор!
— А! Вы не хотите назвать своего имени! Значит, вы унитарий, шпион! — в порыве нового ожесточения крикнул незнакомец.
— Нет, нет, почтеннейший сеньор! Поверьте мне, что я во всякую минуту готов дать повесить себя за знаменитого реставрадора сеньора губернатора города Буэнос-Айреса, дона Хуана Мануэля Розаса, супруга усопшей героини, донны Эпкарнасионы Эскурра... упокой, Господи, ее безгрешную душу!.. Отца сеньориты донны Мануэлиты Розас-Эскурра и сеньоров федералов дона Пруденсио, дона Хервазио, дона...
— Черт вас возьми с вашим поминальным списком! — грозно перебил незнакомец. — Я спрашиваю ваше имя!
— Я готов дать себя повесить и за вас и за вашу дорогую семью, сеньор!.. Ведь у вас, наверное, есть семья, глубокочтимый сеньор, не правда ли?
— Вот я вам сейчас покажу свою семью!..
— Очень вам благодарен сеньор... слишком много чести! — бормотал бедный старик, всеми силами надавливая своим тощим телом на стену, в надежде, что она расступится и позволит ему скрыться.
— Нет, я вам все-таки покажу ее! — злобствовал незнакомец. — Хлопните-ка в ладоши, сеньор поминальщик, — вдруг сказал он.
— Зачем же мне хлопать в ладоши, бесценный сеньор?
— Хлопайте, черт возьми, иначе вы сейчас же будете убиты!
Не дожидаясь повторения этой угрозы, дон Кандидо хлопнул в ладоши, недоумевая, для чего это требует незнакомец.
Как только незнакомец таким образом узнал, что у его противника нет в руках оружия, он бросился на него и, приставив к его груди кинжал, свирепо прошипел:
— Сознавайся, к кому ты сюда приходишь... которая из них привлекает тебя? Говори, иначе я прибью тебя к стене!
— К кому я прихожу, сеньор?..
— Ну, да... к Андрее, или...
— К Андрее? Я вас не...
— Ну, так значит, к Гертрудите? Да?
— Помилуйте, сеньор! Я не знаю никакой ни Андреи, ни Гертрудиты!
— Лжешь! Сознавайся лучше, иначе убью!
— Сознавайтесь сами, для чего вы пришли, иначе я разобью вам череп! — вдруг проговорил дон Мигель, одной рукой хватая незнакомца за правую руку выше локтя, а другой нанося ему своим оружием удар по голове.
— Ой!.. Помогите!— закричал пронзительным голосом незнакомец, тщетно отбиваясь от неожиданного нападения.
— Молчите, или я отправлю вас в преисподнюю! — глухо проговорил сквозь стиснутые зубы дон Мигель, нанося неизвестному новый удар по голове.
— Сжальтесь, надо мной, сеньор! — хрипел незнакомец. — Я добрый федералист, падре Гаэте... Не святотатствуйте, проливая кровь духовного лица!
— Бросьте кинжал, падре!
— Дайте его мне! — вскричал ободрившийся дои Кандидо, ощупью вытаскивая из ослабевшей руки монаха оружие.
— Берите, берите и пустите меня, — сдавался монах. — Я духовное лицо, и меня не...
— Позвольте узнать, для чего вы приходите в этот дом, преподобный отец? — насмешливо спрашивал между тем дон Мигель, повторяя собственные слова монаха.
— Я?..
— Да, ты, нечестивый монах! Гнусный федерал! Низкий убийца!.. Мне следовало бы без всяких разговоров раздавить тебя, как ядовитую гадину, но я не охотник до убийств и не выношу запаха крови... Вот сейчас ты дрожишь, недостойный монах, а завтра снова, как ни в чем не бывало, нагло задерешь свою голову и будешь стараться вынюхать человека, который заставлял тебя дрожать, но остался для тебя неизвестным!.. С кинжалом в руке ты взойдешь на кафедру и будешь подстрекать народ против унитариев!
— Нет, нет, клянусь вам, сеньор! — вопил обезумевший от страха монах. — Сжальтесь только надо мной, отпустите меня...
— На колени, негодяй! — продолжал дон Мигель, насильно пригибая монаха к земле. — Вот теперь отлично! Так и оставайся, нечестивец... жрец той бесконечной кровавой вечери, которая затеяна такими же негодяями, как и ты! Стой тут на коленях, гнусный убийца, прикрывающийся монашеской рясой! Это самая подходящая для тебя поза!
Говоря эти слова, молодой человек все время сильно тряс за плечи монаха, уже не оказывавшего никакого сопротивления. Потряся еще некоторое время обезумевшего от страха монаха, дон Мигель повелительно сказал ему:
— Теперь можешь встать!
— Сжальтесь надо мной, сеньор, — продолжал умолять падре Гаэте, не поднимаясь с колен.
— Сжалиться над тобой? А ты пожалел хоть кого-нибудь, лжец политической ереси, называемой у вас федерацией?
— Сжальтесь!..
— Встань, говорю тебе!
— Сеньор...
— Отдай ключ от этой двери!
— Вот он... Не убивайте только меня!
Дон Мигель молча взял ключ, втащил монаха в приемную и запер его там.
— Дон Кандидо, где вы? — окликнул он потом своего спутника.
— Здесь! — тихо ответил старик.
— Идем скорее!
— Идем, дорогой мой, идем! — радостно пролепетал старик, уцепившись за плащ молодого человека.
Но и на этот раз лишь только дон Мигель хотел вложить свой ключ в замок, другой ключ был вложен туда снаружи и дверь отворилась.
— Херувимы небесные, спасите нас! — взвизгнул дон Кандидо, прячась за спину молодого человека.
— Погодите входить! — шепнул дон Мигель на ухо женщине, которая отперла дверь и за которой стояли три другие особы женского пола. Все они послушно отступали назад.
Вытащив на улицу дона Кандидо, который едва держался на ногах, дон Мигель запер дверь и отдал ключ той, с которой уже говорил.
— Вам нужно подождать еще четверть часа прежде, чем вы войдете в дом, — продолжал молодой человек, обращаясь к первой из женщин, которая была не кто иная, как дойна Марселина. — В приемной у вас сидит под замком падре Гаэте.
— Падре Гаэте! — вскричала донна Марселина, всплеснув руками. — Боже мой! Что это значит? Уж не убили ли вы...
— Полноте! Ведь вы меня знаете, и вам стыдно даже думать такие вещи!.. Но дело в том, что если вы сейчас же выпустите его, он погонится за мной, а это было бы мне очень нежелательно. Понимаете?
— Ах, Господи, конечно! Но я...
— Вы должны уверить монаха, — перебил дон Мигель, тщательно кутаясь в плащ, чтобы остальные женщины, стоявшие в стороне, не могли разглядеть его лица, — что не знаете человека, который запер его, и не можете понять, как он забрался в ваше отсутствие к вам в дом. Поняли?
— Понимаю, понимаю, сеньор...
— Смотрите: одно ваше неосторожное слово на мой счет будет стоить вам очень дорого, донна Марселина!.. Советую вам отправиться в какой-нибудь магазин и купить там своим племянницам, что им понравится, пока преподобный отец отдыхает у вас в приемной, — добавил молодой человек, сунув в руку донне Марселине сверток банковских билетов.
После этого он взял под руку полумертвого от страха и волнений дона Кандидо, стоявшего у соседнего забора, и торопливо увлек его за собой вдоль по улице Кочабамба.
ТРИДЦАТЬ ДВА РАЗА ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
Долго идти беглым шагом учитель чистописания не мог, и поэтому, вскоре вынужден был просить у своего бывшего ученика пощады, у старика подкашивались ноги и захватывало дух.
— Я умру, право, умру! — уверял он, стараясь высвободить свою руку из крепко дернувшей его руки молодого человека.
Но последний продолжал изо всех сил тащить его за собой, говоря на ходу:
— Идите, идите. Если я сейчас пощажу вас, другие потом не пощадят.
Только очутившись на улице Пиедрас, он замедлил шаги и сказал:
— Ну, теперь мы пробежали четыре улицы и можем не бояться, что его преподобие догонит нас, почтенный монах для этого слишком толст.
— Какой монах? О каком это монахе ты говоришь, сын мой? — удивился дон Кандидо, остановившийся немного, чтобы перевести дух.
О том, которого я запер.
— Ах, да, ведь это и в самом деле был монах!
— Да еще с кинжалом!
— Это ужасно, мой дорогой Мигель... А ведь мы держали себя с ним настоящими молодцами, не правда ли? А?
— Гм!.. Вы — да, а что касается меня...
— Я сам не ожидал, что у меня в минуту опасности явится такое непоколебимое мужество.
— Гм, да... Действительно, беспримерное мужество!..
— Не правда ли, Мигель? Ведь в сущности я должен был умереть от страха, когда почувствовал острие кинжала, приставленного к своей груди.
— Понятно, дон Кандидо! Но...
— Но такова уж моя чувствительная, деликатная и впечатлительная организация: она таит в себе запас сил, которые проявляются только в моменты страшной опасности... Знаешь ли, мой дорогой покровитель, что еще немного и я задушил бы этого монаха...
— Потише, мой почтенный друг, потише! — прошептал дон Мигель, снова взяв старика под руку и ведя его дальше.
— А что?.. Разве этот монах идет за нами? — прерывающимся голосом спросил дон Кандидо, озираясь по сторонам.
— Пока нет, но в Буэнос-Айресе стены имеют уши.
— Да, да, это верно, Мигель... Переменим лучше разговор. Я только хотел сказать тебе...
— Что?
— Что, собственно, ты был причиной той опасности, в которой я так неожиданно очутился.
— Это верно, зато я же и спас вас.
— О, да, конечно! Я знаю, что не будь тебя, я ни за что ни про что погиб бы... Поверь, мой дорогой покровитель и спаситель, что я этого вовеки не забуду!.. А как ты думаешь, Мигель, ведь этот окаянный монах...
— Вы опять о том же? Молчите и идите, иначе нас того и гляди сцапают.
Старик весь сжался в комок и прибавил шагу.
Пройдя еще несколько улиц, дон Мигель остановился и не то с сожалением, не то с насмешкой взглянув своему спутнику в лицо, при слабом уличном освещении казавшееся синевато-бледным, вдруг весело расхохотался.
— Чему это ты, Мигель, так смеешься? — спросил старик, вытаращив глаза.
— Так, вспомнил кое-что смешное.
— Насчет меня?
— Да...
— Что же именно, дорогой Мигель?
— Да то, что вас заподозрили было в амурных поползновениях.
— Меня?! Когда же и кто, Мигель?
— Разве вы уже забыли, о чем вас допрашивал монах?
— Ах, да!.. Но ведь ты знаешь...
— Я ничего не знаю, сеньор.
— Как! Ты не знаешь, что я ни с кем не знаком в том доме?
— Это-то я знаю...
— Так чего же ты не знаешь?
— Мало ли чего я не знаю, — ответил молодой человек, забавляясь возраставшим смущением своего бывшего учителя чистописания.
Он продолжал стоять, потому что, пройдя более полумили по дурно вымощенным улицам, тоже почувствовал усталость.
— Спрашивай, что желаешь узнать. Ты знаешь, что я ни в чем не могу отказать тебе, — говорил старик, прислонившись к степе наглухо заколоченного дома.
— На какой улице находится ваш дом? Мне это до сих пор неизвестно.
— А! Ты хочешь оказать мне честь своим посещением? Вот обрадовал бы!
— Вы угадали, я, действительно, намерен посетить вас.
— Да?.. Мы всего в нескольких шагах от моего домика.
— Так я и думал, что вы живете в этом квартале. Ведите же меня к себе.
— Иди вот сюда, на улицу Кюйо.
Через несколько минут старик постучался в дверь дома очень почтенного вида. Дом этот напоминал те дома, которые начали строиться в этом месте с одиннадцатого июня 1580 года, когда наместник губернатора, дон Хуан Гарай, основал город Троицы и гавань Буэнос-Айреса, разбив план города на сто сорок четыре части, из которых дон Хуан Басуальдо получил часть, занятую теперь домом дона Кандидо Родригеса.
Дверь отворила высокая, сухощавая женщина лет пятидесяти, закутанная в большую шерстяную шаль. Она не выразила ни малейшего удивления при виде незнакомого спутника своего господина, а только окинула его пытливым взглядом.
— Есть огонь в моей комнате, донна Николасса? — спросил дон Кандидо, переступив порог.
— Давно уже горит, сеньор, — ответила экономка с произношением, свойственным уроженцам провинции Кюйо и никогда не утрачиваемым ими, хотя бы они с самого детства жили вне своей родины.
Пока донна Николасса, заперев дверь, уходила к себе, хозяин со своим гостем вошли в зал с кирпичным полом, усеянным массой выбоин, так что дон Мигель на каждом шагу спотыкался, несмотря на свою привычку к отвратительным улицам города.
По обстановке этой залы сразу было видно, что здесь когда-то собирались дети, усердно старавшиеся ломать стулья, резать перочинными ножами столы и проливать потоки чернил.
На одном из столов лежали бумаги, чертежи и книги, между которыми первое место занимал громадный словарь кастильского языка. Посредине красовался оловянный письменный прибор, весь закапанный чернилами.
— Садись и отдохни, дорогой Мигель, — предложил дон Кандидо, опускаясь в старинное кожаное кресло, стоявшее перед письменным столом.
— С большим удовольствием, сеньор секретарь, — ответил дон Мигель, садясь напротив него, по другую сторону стола.
— Почему ты не называешь меня по-старому?
— Потому, что вы с нынешнего дня занимаете новое и очень почетное положение.
— Да, благодаря тебе, это мой якорь спасения, дорогой Мигель. Мне, конечно, придется читать много вслух? Но это не беда, мои легкие в порядке, и меня не скоро утомит дон Фелиппе д'Арана.
— Министр иностранных дел аргентинской конфедерации, — договорил дон Мигель.
— Как ты хорошо затвердил титул его превосходительства, Мигель!
— У меня память лучше вашей, сеньор секретарь.
— Что это... намек?
— Пожалуй, да. Я хочу напомнить вам, что вы обещали показывать мне все бумаги, которые будете писать у дона Фелиппе, или хотя бы только передавать их содержание.
— Я сдержу свое обещание, Мигель. Но, сказать по правде, я никак не могу понять, какой тебе интерес узнавать государственные тайны?.. Берегись, Мигель! Вмешиваясь в политику, ты рискуешь подвергнуться тому самому, от чего я чуть было не погиб в тысяча восемьсот двадцатом году. Дело было так: раз я иду из дома одной из моих крестных, уроженки Кордовы — города, в котором, кстати сказать, делаются лучшие пирожные и варенья во всем мире... В этом же городе мой отец учился латыни. Ах, если бы ты знал, какой ученый человек был мой отец! Том Гомера у него был весь истрепан от постоянного чтения. Я еще помню, как однажды, когда мне было лет шесть, я швырнул этим томом прямо в чернильницу, доставшуюся моему отцу в наследство от его прадеда, который был...
— Вы мне уж не раз рассказывали эту историю.
— Ты не хочешь продолжения моего интересного и очень поучительного рассказа, Мигель? Ну, как тебе угодно... Но скажи мне, почему тебе интересно знать политические тайны дона Фелиппе?
— Да так... из любопытства, сеньор...
— И только?
— Конечно... Ведь вы знаете, что я так сержусь, когда мое любопытство не удовлетворяется, что готов порвать все отношения с людьми, отказывающими мне...
— Мигель!
— Да, да, ничего не поделаешь, уж таков мой характер. Притом между порядочными людьми принято оказывать друг другу услуги за услуги, не так ли? — с легкой насмешкой в голосе добавил молодой человек.
— Само собой разумеется, — подхватил старик, беспокойно ерзая в кресле.
— Значит, и вы с этим согласны, сеньор секретарь? — продолжал дон Мигель. — В доказательство этого возьмите в руки перо, а мне дайте чистый лист бумаги.
— Мне взять перо, а тебе дать бумаги?
— Ну, да. Разве это так трудно?
— Конечно, нет! Но... разве мы будем писать, Мигель?
— Да, то есть вы будете писать.
— Каким же образом я буду писать, если у тебя будет бумага, а у меня перо и притом ты сидишь на другом конце стола? — недоумевал дон Кандидо.
Дон Мигель молча улыбнулся, быстро сворачивая бумагу. Окончив эту операцию, он взял ножик и нарезал пачку маленьких квадратиков, величиной немного меньше визитной карточки. По счету этих квадратиков оказалось тридцать два. Отобрав восемь штук, молодой человек положил их перед доном Кандидо, который глядел на него во все глаза, решительно не понимая, что все это значит.
— Что же мне делать с этими бумажками? — спросил он, осторожно дотрагиваясь до них кончиками пальцев, точно боясь, что они могут укусить его.
— А вот я вам сейчас скажу, — ответил дон Мигель. — Что, это перо хорошее? — прибавил он, взяв в руки тонко очиненное перо.
— Самое лучшее, какое только у меня есть. Оно очинено для самого тонкого почерка, — с важностью сказал бывший учитель каллиграфии, поднося перо к глазам.
— Хорошо. Напишите теперь на каждом квадратике английским почерком цифру двадцать четыре.
— Двадцать четыре? Ах, какое это скверное число, Мигель!
— Почему?
— Потому что это число составляло максимум ударов линейкой, которыми я наказывал своих ленивых учеников. Некоторые из них, впрочем, оказались впоследствии людьми с большим достоинством и занимают теперь высокое положение в обществе. Мне часто думается, что при случае они могут отомстить мне, хотя...
— Пишите же, сеньор, пишите: двадцать четыре, — нетерпеливо перебил дон Мигель.
— Цифрами?
— Цифрами, цифрами.
— Больше ничего?
— Больше ничего. Пишите!
— Двадцать четыре... двадцать четыре... двадцать четыре... — бормотал старик, набрасывая на бумажках красивые цифры. — Готово! — сказал он, тщательно выведя цифру на последнем квадратике.
— Хорошо. Теперь напишите на обороте каждого квадратика слово «Кочабамба».
— Кочабамба?!
— Ну, да. Разве вы плохо слышите, или я неясно говорю? — нетерпеливо спросил дон Мигель.
— Нет, я прекрасно слышу и хорошо тебя понимаю, мой дорогой Мигель, но название этой улицы у меня связано с воспоминанием о том доме, в котором мы сейчас были, а также и о том нечестивом, кровожадном, вероотступном, свирепом монахе, кото...
— Пишите же: Кочабамба, любезный учитель.
— На всех квадратиках?
— На всех, на всех!
— Кочабамба... Кочабамба... Кочабамба... Ну, вот тебе все восемь Кочабамб. Еще что при...
— Возьмите самое толстое перо.
— Зачем? Это перо лучше, чем...
— Говорят вам, берите самое толстое!
— Хорошо, хорошо, не сердись! Ну, вот самое толстое, им можно линовать.
— Отлично. Вот вам еще восемь квадратиков. На каждом из них напишите на одной стороне ту же цифру, а на другой — то же слово, только испанским почерком и потолще.
— То есть ты хочешь, чтобы я изменил свой почерк? Я ведь всегда пишу английским и...
— Вы иногда умеете угадывать удивительно верно, мой достойный друг!
— Но, Мигель, это очень опасная штука. В тысяча восемьсот...
— Сеньор дон Кандидо, угодно вам писать дальше или нет?
— Разве я могу отказать тебе в чем-нибудь, мой дорогой друг и покровитель? Напишу и на этих бумажках.
— Есть у вас какие-нибудь цветные чернила? — спросил дон Мигель, когда старик написал, что было нужно и на следующих восьми квадратиках.
— Есть, как не быть! И при том превосходные, великолепные, блестящие чернила огненно-красного цвета.
— Прекрасно. Пишите ими на этих восьми квадратиках.
— То же самое?
— То же самое.
— Каким почерком?
— Французским.
— Самым скверным из всех почерков в мире!.. Ну, вот, готово.
— Теперь пишите то же самое на последних восьми бумажках.
— Какими чернилами?
— Обмакивайте в черные чернила то перо, которым писали красными.
— А каким почерком?
— Женским.
— Это будет потруднее, но напишу... Ну, вот и эти готовы! Значит, всего тридцать два квадратика?
— Верно, тридцать два, по двадцать четыре.
— И тридцать две Кочабамбы?
— Совершенно верно... Спасибо вам, дорогой друг, — проговорил дон Мигель, тщательно пересчитав квадратики и пряча их в свой бумажник.
— Это, наверное, какая-нибудь игра в фанты, Мигель? А? — полюбопытствовал дон Кандидо.
— Может быть, — улыбнулся дон Мигель.
— Или за этим скрывается что-нибудь более серьезное... любовная интрижка, например, мой плутишка? А?
— Прощайте пока, мой бывший учитель и настоящий друг, — перебил молодой человек, вставая и протягивая старику руку. — Сделайте мне одолжение, забудьте скорей, что вы сейчас писали.
— Хорошо, хорошо, будь спокоен, — говорил дон Кандидо, крепко пожимая тонкую, нежную руку молодого человека. — Я сам был молод и знаю, к каким хитростям иногда должен прибегать влюбленный... Не бойся, я не выдам тебя. От души желаю тебе счастья и такой любви, какой ты вполне заслуживаешь, потому что...
— Спасибо, дорогой друг, спасибо за ваше доброе пожелание. Пожалуйста, не забудьте о плане.
— Он тебе нужен завтра?
— Да, непременно завтра до обеда.
— Ты получишь его до полудня.
— Хорошо. Только принесите его сами.
— Обязательно!
— Ну, спокойной ночи, любезный учитель!
— До свидания, дорогой Мигель, мой лучший друг и покровитель, до завтра!
Выйдя на улицу, куда его проводил дон Кандидо, молодой человек плотно завернулся в плащ и медленно пошел вдоль улицы Кюйо, думая о только что покинутом им человеке, который до старости сохранил детскую наивность и чистосердечие, хотя и обладал некоторыми полезными и практическими познаниями. Вообще дон Кандидо Родригес принадлежал к числу тех людей, которым вполне чужды злоба, недоверие, честолюбие, зависть, — словом, все пороки, свойственные большинству людей, и которые остаются детьми в течение всей своей жизни, как бы долга она ни была, никому не вредя и ничего не видя дальше своего носа.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Раздумывая об удивительном характере своего старого учителя, дон Мигель совершенно забыл о тех важных делах, которые были затеяны им в последнее время. Несмотря на свой ум и деловитость, молодой человек мог иногда поспорить легкомысленностью и беспечностью с любым шалопаем, живущим исключительно для того, чтобы пользоваться благами жизни. Нередко бывало, что он шутил и смеялся в то время, когда другие могли ожидать, что он заплачет.
В настоящую минуту, когда он имел при себе свой смертный приговор, в виде тридцати двух бумажек (достаточно было бы одному из членов Mac-Горки не только увидеть эти таинственные бумажки, но даже узнать о них, чтобы сейчас же убить его), он и не думал об опасности, и готов был даже подурачиться, если бы представился удобный случай.
У его дома, в конце улицы Виктории, его ожидал Тонилло, обеспокоенный долгим отсутствием своего господина.
Дон Мигель, обыкновенно, возвращался домой в половине восьмого, чтобы переодеться и отправиться к донне Авроре, а теперь, было уже половина девятого.
В описываемое нами время, молодые аргентинцы по большей части принуждены были порывать все свои связи и бежать из города, чтобы помогать отечеству, над которым тяготела железная рука Розаса.
Дон Мигель был счастливее многих своих единомышленников, потому что мог остаться в городе, где обитало существо, которое он любил больше себя самого.
— Был кто-нибудь без меня, Тонилло? — осведомился он, входя в дом.
— Сейчас дожидается вас в гостиной один сеньор, — ответил слуга.
— А кто именно? — небрежно проронил дон Мигель, направляясь в кабинет.
— Сеньор дон Альваро Нуннес.
— Сеньор дон Альваро Нуннес?!. Что ж ты не сказал мне этого сразу? Таких людей не следует заставлять ждать ни одной лишней минуты, — быстро проговорил молодой человек, поворачивая назад к гостиной.
Там сидел на диване старик благородной и приятной наружности.
Дон Мигель поспешно подошел к нему, протянул руку и сказал:
— Очень жалею, сеньор, что вам пришлось ждать меня. Обычно я бываю дома в семь часов вечера, сегодня случайно запоздал.
— Это ничего не значит, сеньор дель Кампо, — с приветливой улыбкой ответил дон Альваро Нуннес, богатый испанец, давно уже поселившийся в Буэнос-Айресе, где пользовался общим уважением. — Я пришел всего несколько минут тому назад и охотно прождал бы вас сколько угодно, лишь бы дождаться.
— Вполне разделяя привязанности своего отца, я не желал бы потерять ни одной из тех минут, которые желают посвятить мне его друзья, — любезно сказал молодой человек, приложив руку к сердцу.
— Благодарю вас, дон Мигель, за выраженное вами чувство... Мы с вашим отцом, доном Антонио, действительно, большие друзья. Он первый из аргентинцев, с которыми я сошелся по приезде в Буэнос-Айрес...
— Не знаю, сеньор, но надеюсь, что увижу его здесь в сентябре или октябре. Тогда, конечно, и вы будете почаще посещать этот дом?
— О, да, конечно! Хотя я вообще мало выхожу, но для дона Антонио сделаю исключение. Мы с ним старые друзья... Признаться, только эта дружба и заставляет меня надеяться, что вы примите мое извинение.
— Ваше извинение? Помилуйте, сеньор, в чем можете вы извиняться предо мной!
— Да вот, представьте, явилась такая надобность, — уныло проговорил дон Альваро.
— Простите, я никак не могу понять, высокоуважаемый сеньор...
— Я поручился вам в ста сорока пяти тысячах пиастров за проданный вами поставщику Трасторы скот. Помните это, сеньор дель Кампо?
— Совершенно верно. Тотчас же по получении вашего письма я приказал выдать скот.
— Завтра наступает срок.
— Разве? Ну, этого я не помню.
— Да, завтра, седьмого мая.
— Ну, так что же, сеньор?
— Да видите ли, в чем дело. Трасторы только сегодня дал мне знать, что не собрал необходимой суммы, а у меня самого нет столько денег в кассе, получу же я только через неделю...
— И это все? Да я готов ждать не только неделю, а сколько вам будет угодно. Отец ничего мне не писал об этих деньгах, а если бы даже и написал, что они ему нужны, то вы знаете, что сеньоры Анкоренасы сейчас же доставили бы мне необходимую сумму. Ваше слово для меня — те же деньги, сеньор Нуннес, и я прошу вас не беспокоиться относительно сроков уплаты. Когда будут, тогда и отдадите — вот и все.
— Благодарю вас! — горячо проговорил старик, вторично пожимая дону Мигелю руку. — У меня недавно было в кассе пятьсот унций золотом, из которых я мог бы заплатить вам, но третьего дня попал в одно дело... из тех, из которых так часто не знаешь, как выпутаться.
— Да, — сказал молодой человек, изменяя своей привычке никогда не выказывать любопытства относительно чужих дел, может быть и не без задней мысли, — конца теперь нет всевозможным подпискам и сборам пожертвований на госпитали, для пленных, в пользу университетов, на военные надобности и Бог знает на что еще. Отказываться нельзя, чтобы не навлечь на себя неприязни тех лиц, которые делают эти сборы.
— Вот именно кое-что в этом роде случилось и со мной, — подхватил дон Альваро.
— А иногда приходится давать взаймы, без всякого желания и без всякой надежды получить когда-нибудь обратно то, что даешь, — как бы вскользь заметил дон Мигель.
— Ну, положим, насчет получки я не сомневаюсь, потому что Манчилла дал мне закладную на свой дом.
— О, это, конечно, верная гарантия! — с оживлением проговорил дон Мигель, который при имени Манчиллы понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал сначала.
— Я тоже нахожу, сеньор дель Кампо. Я дал денег без процентов, и в случае, если он в срок не отдаст своего долга, дома его я все-таки продавать не буду.
— Вы это сделали очень хорошо, сеньор Нуннес. Благодаря такому одолжению, вы смело можете рассчитывать на поддержку генерала Манчиллы, если вам понадобится сильная протекция. Если же бы вы отказали ему в деньгах или потребовали от него уплаты, то нажили бы себе опасного врага.
— Совершенно верно, сеньор дель Кампо. Хотя дружба Манчиллы и некоторых других лиц обходится мне очень дорого, но ничего не поделаешь. Я должен быть доволен и тем, если они соблаговолят оставить мне хоть что-нибудь из моего состояния и позволят в мире и покое пользоваться этими остатками.
— Да, сеньор, очень грустно находиться в положении, которое заставляет нас покупать то, на что мы имеем законное право. Но если уж; нельзя иначе, то, конечно, нужно покоряться... Ввиду этой печальной необходимости вы поступили очень благоразумно.
— Кажется, что так.
— Но, с другой стороны, если у вас постоянно будут вытягиваться такие суммы, то вам, в конце концов, придется сильно потесниться...
— Что же делать! К счастью, на этот раз я гарантирован закладной.
— Вы уж получили ее в руки?
— Нет... но я считаю ее уже полученной, потому что генерал обещал выдать ее на днях.
— А деньги он от вас уже получил?
— Да, третьего дня он получил те пятьсот унций золотом, о которых я вам говорил.
— А не лучше ли было бы сначала получить закладную, а потом уж выдать деньги?
— Я сначала так и думал сделать, но Манчилла убедительно просил немедленно выдать ему деньги, так как ему нужно было уплатить какой-то долг. Закладную же он хотел привезти на днях... даже вчера.
— Гм! И не привез?
— Нет... Может быть, он привезет ее завтра.
— Ну, это едва ли, сеньор Нуннес.
— Вы сомневаетесь в генерале Манчилла?
— Я сомневаюсь в настоящем, совершенно исключительном времени.
— Однако...
— Простите, я ведь высказываю только свое личное мнение, а оно может быть и ошибочным.
— Если Манчилла обманет меня, это будет так неблагодарно, неблагородно и низко, что после этого никому уж нельзя будет верить!
— Сеньор дон Нуннес, вы человек уже пожилой и опытный, а я еще только недавно вступил в жизнь, но тем не менее, я позволяю себе посоветовать вам напомнить генералу Манчилла об его обещании и махнуть на все рукой, если заметите у него при этом недовольную мину. Мне думается, что вам придется записать ваши пятьсот унций в счет потерь и убытков.
— Чего же ради ему делать недовольную мину, если я буду требовать законного?
— Да мало ли что может быть, сеньор Нуннес... Неужели вы думаете, что родственник Розаса будет стесняться с кем-нибудь?.. И разве вы ни во что не ставите неудовольствие таких лиц?..
— Вы как будто хотите сказать, что мне лучше больше не напоминать ни о чем генералу Манчилла?
— Нет, отчего же, попробуйте напомнить ему о закладной... Я, собственно, хотел сказать, что если он не захочет исполнить своего обещания, то сделает только то, что теперь делают все: и депутаты, и духовенство, и военные, — словом, все, находящиеся на стороне Розаса. Поэтому вам требовать чего-нибудь от генерала Манчилла никак нельзя, если не хотите поставить себя с ним в неприязненные отношения.
— Да, вы правы... Благодарю вас за совет, — произнес старик, задумчиво опустив свою белую голову на грудь.
— Если это и не совет, то по крайней мере это мнение искреннего друга, — скромно сказал дон Мигель.
— Я очень ценю мнения честных людей, сеньор дель Кампо, и еще раз благодарю вас за то, что вы предупредили меня... Итак, на следующей неделе я привезу вам сто сорок пять тысяч пиастров, — добавил дон Альваро, вставая.
— Пожалуйста, не стесняйтесь из-за меня, сеньор Нуннес; повторяю, я подожду, сколько вам будет угодно.
Дон Мигель почтительно проводил до наружной двери друга своего отца и потом несколько минут ходил по двору, погруженный в глубокие размышления. Затем он вдруг встрепенулся, провел рукой по лбу, как бы желая прогнать тяжелые мысли, и через черный ход прошел в свою спальню, где его ожидал Тонилло.
— Что вам угодно будет надеть, сеньор? — осведомился тот.
— Фрак.
— Сейчас принесу.
Пока слуга бегал в уборную за фраком, дон Мигель поспешно прошел в свой кабинет, запер там в секретный ящик письменного стола бумажник с тридцатью двумя таинственными квадратиками и возвратился в спальню немного раньше Тонилло.
— Плащ наденете? — спросил слуга, когда его господин надел уже перчатки и шляпу.
— Нет.
— Подать вам что-нибудь из карманов камзола, который вы сняли?
— Нет, ничего не нужно.
— А пистолеты возьмете?
— Нет. Дай только трость.
— Когда за вами приехать?
— В одиннадцать часов. Захвати пончо.
— Мне приехать за вами на своей лошади, сеньор?
— Обязательно. Ты поедешь со мной в Барракас.
— От донны Авроры?
— Да, понятно! К кому же еще я отправляюсь так поздно! — почти крикнул молодой человек, рассердившись, что Тонилло задал ему такой глупый вопрос.
БЕЛАЯ РОЗА
«Тукуман, по красоте местоположения, плодородию и климату — сад вселенной», говорит капитан Эндрюс в своем «Путешествии по Южной Америке», изданном в Лондоне в 1827 году.
В этом отзыве нет никакого преувеличения, он вполне соответствует действительности.
Все, что тропическая природа может произвести прекрасного и роскошного, ласкающего взор, вкус и обоняние и приводящего в восторг душу и ум человека, — все это соединено в Тукумане. Эта небольшая провинция Аргентинской республики кажется раем посреди громадной дикой и суровой пустыни, простирающейся от Эстреко до Боливии и от Андов до Уругвая.
Среди этого рая, наполненного ярким светом и благоуханиями, чудными цветами, плодами, многочисленными птицами, родилась донна Гермоза.
Отец ее, полковник Саэнс, умер, когда ей только что минуло шесть лет, во время поездки его жены — сестры матери дона Мигеля — в Буэнос-Айрес.
Донна Гермоза росла посреди благодатной природы беззаботным и веселым ребенком, не видевшим в жизни ничего, кроме радостей.
Когда молодая семнадцатилетняя Гермоза, исполняя желание матери, отдала свою руку сеньору Салаберри, она еще была совершенно нетронута сердцем и смотрела на жениха скорее как на друга и покровителя, нежели своего будущего супруга.
Она недолго и была замужем, — всего только год. В то время, когда мы познакомили с ней наших читателей, она была вдовой уже полтора года. К несчастью, вскоре после смерти мужа скончалась у нее на руках и ее мать, которую она горячо любила.
Оставшись, таким образом, одна на свете, молодая женщина совершенно ушла в себя, отказавшись от общества и решившись жить только воспоминаниями о тех, которых похитила у нее смерть. Однако эти воспоминания вскоре стали так удручать ее, что она почувствовала необходимость в перемене места и переселилась в Буэнос-Айрес, где у нее в пригородном местечке Барракасе был дом.
Уже восемь месяцев она совершенно уединенно и спокойно жила там, как вдруг четвертого мая случилось событие, которое должно было повлиять на всю ее последующую жизнь.
С этого числа прошло уже три недели. Было десять часов утра. Сквозь двойные занавески уборной донны Гермозы проникали яркие лучи утреннего солнца, распространяя приятный полусвет.
Сидя в кресле перед большим зеркалом в роскошной резной позолоченной рамке, донна Гермоза оканчивала свой туалет с помощью Лизы, своей хорошенькой, преданной и любимой камеристки.
Вдруг голова молодой женщины опрокинулась на спинку кресла, глаза ее закрылись и она впала в то полудремотное состояние, во время которого душа как бы блуждает в пространстве, не прекращая, однако, своей связи с телом.
Лиза неподвижно стояла перед своей госпожой, глядя на нее с нежной улыбкой.
Часы звонко ударили полчаса. Донна Гермоза вздрогнула, открыла глаза и спросила:
— Лиза, я, кажется, спала?
— Да, сеньора.
— Долго?
— Нет, всего полчаса.
— Говорила я что-нибудь во сне?
— Нет, вы только улыбнулись два раза.
— Да, это верно: я, действительно, ничего не говорила, а только улыбалась.
— Неужели вы знаете все, что делаете во сне, сеньора? — удивилась камеристка.
— Да я вовсе не сплю, Лиза, как ты предполагаешь.
— Как не спите, сеньора?!
— Да моя милая, я и не думаю спать. Какая-то посторонняя сила смыкает мне глаза, властвует надо мной и, покорив меня, лишает всякой воли. Я не замечаю того, что происходит около меня, а между тем вижу то, что, быть может, таится в будущем. Я вижу людей, разговариваю с ними, испытываю радость или горе, смотря по тому, что мне представляется; но это не сонные видения, а нечто происходящее в действительности, хотя вне времени и пространства. Поэтому я и сознаю и помню все, когда прихожу в себя. Мне даже долго еще после этого кажется, что все вокруг будто продолжение только что виденного мной... Вот и сейчас я точно еще вижу его возле себя, как он был минуту тому назад.
— Кого же это, сеньора? — с невольным любопытством спросила Лиза.
— Кого? Разве я говорила о ком-нибудь, Лиза?
— Вы сказали, что видели кого-то возле себя.
— Ах, да!.. Ну мало ли я кого могла видеть, милая Лиза... Доканчивай скорее мою прическу. Да, кстати, что ты мне сказала недавно, когда только что разбудила меня, о доне Луисе?
— Неужели вы опять забыли, сеньора? Ведь я уже четыре раза докладывала вам одно и то же.
— Не беда, доложишь и в пятый раз, тогда я, может быть, и запомню.
— Перед тем, как разбудить вас, я ходила, как вы мне приказали, во флигель спросить у слуги дона Луиса, как здоровье его господина, но не нашла его. Возвращаясь назад, я увидала самого дона Луиса и его слугу в саду и прошла туда. Дон Луис рвал цветы и составлял букет, когда я подходила к нему. Мы с ним долго разговаривали о...
— О ком?
— О вас, сеньора... Очень уж любопытен этот молодой сеньор, больше всякой женщины, по-моему! Все ему нужно знать, что вы делаете: читаете ли вы по ночам и какие именно книги, пишите ли вы и что именно, какие цветы вы любите — фиалки или гиацинты; сами ли ухаживаете за вашими птицами, любите ли гулять, и... да уж и не припомню, что он еще спрашивал! Совсем замучил меня своими расспросами.
— Это сегодня он так расспрашивал тебя?
— И сегодня и...
— А ты-то спросила его о здоровье?
— К чему спрашивать, сеньора, когда у меня есть глаза!
— Что ж он, по-твоему, поправляется?
— Кажется, но только хромает больше вчерашнего... Морщится, когда ступает на левую ногу.
— Ах, Боже мой! Я ведь говорила ему, чтобы он не смел еще ходить, а он такой упрямый, никого не слушается!— вся побледнев, вскричала донна Гермоза. — Это все противный Мигель сбивает его с толку... Он и его погубит, и меня с ума сведет, — продолжала она как бы про себя. Помолчав немного, она нетерпеливо крикнула:
— Да скоро ли ты окончишь прическу, Лиза? Ты сегодня что-то уж очень копаешься... Мне нужно...
— Выпить чашку молока с сахаром, сеньора, — спокойно договорила Лиза. — Вы еще и не так побледнеете, если не...
— Разве я очень бледна? Безобразна? Да? — с испугом проговорила донна Гермоза, наклоняясь к зеркалу.
— Безобразны? Господи! Чего только вы не скажете, сеньора! Вы хороши, как ангел, но только личико у вас немного побледнело оттого, что мало стали кушать.
— Ты думаешь?
— Конечно! Разве вы сами не видите? А еще сегодня вечером...
— Ах, не напоминай мне, пожалуйста, о сегодняшнем вечере!
— Как! Разве он вас не радует?
— Нисколько... Я желала бы захворать, чтобы только этот вечер не состоялся.
— Ну, вот еще...
— Уверяю тебя... и не только захворать, даже умереть!
— Не понимаю вас, сеньора. Я на вашем месте так бы радовалась балу!
— Ну, ты — дело другое.
— Странно! — задумчиво говорила Лиза, разводя руками и качая головой. — Ах, я угадала, почему вы желали бы захворать! — вдруг воскликнула она, обрадовавшись своей проницательности.
— Почему же? — спросила донна Гермоза.
— Потому что вам не хочется надевать федерального значка. Так ведь? Да?
Донна Гермоза улыбнулась.
— Ты угадала, но не все, — ответила она.
— Не все?.. Постараюсь угадать все... Наверное, вам еще и потому не хочется быть на балу, что там нельзя будет играть на фортепиано, как вы делаете каждый вечер дома...
— Нет, и это не то.
— Опять не то! Ну, все равно, если теперь не угадала, — угадаю потом... Вот, пожалуйте, готово. Ах, да вы сегодня еще лучше, чем обыкновенно! — добавила Лиза, всплеснув руками и восхищенным взором оглядывая свою госпожу со всех сторон.
— Ну? — с улыбкой произнесла молодая женщина, вертясь перед зеркалом. — Спасибо, что хвалишь, Лиза... Но оставим это. Знаешь, что ведь я очень сердита на тебя!
— Неужели? — усмехнулась Лиза. — Я слышу от вас это в первый раз...
— Да, потому что в первый раз у моих птичек нет воды.
— Ах! — вскричала Лиза, ударив себя по лбу рукой. — Я ведь, действительно, забыла дать им воды! Но я в этом не совсем виновата, сеньора.
— Как так?
— Я хотела налить им воды, но мне помешал сеньор дон Луис.
— Каким образом он мог тебе помешать? Что ты городишь?
— Когда я ходила узнавать о здоровье дона Луиса, у меня в руке были чашечки из клеток; я их сначала хотела вымыть, а потом уж налить водой. Но этот любопытный сеньор, увидев чашечки, спросил, на что они и что я с ними хочу делать. Я объяснила ему. Тогда он взял их у меня из рук и сказал, что хочет сам вымыть их и послал своего человека за водой. Тут вдруг я услыхала, что бьет девять часов, и бросилась будить вас, как вы приказали. Вот почему я и забыла о чашечках, которые так и остались у этого больного сеньора.
— Ага, вот что! — с блаженной улыбкой проговорила донна Гермоза, мечтательно глядя перед собой.
— Я побегу за чашечками, сеньора, а потом подам вам молоко, — сказала камеристка, готовясь выпорхнуть из комнаты.
— Погоди, Лиза... Вот, что... — нерешительно мялась донна Гермоза.
— Что прикажете, сеньора?
— Послушай...
— Я слушаю, сеньора. Господи, неужели я еще в чем-нибудь провинилась?
— Нет... Который час?
— Только что пробило одиннадцать.
— Пойди и скажи сеньору Бельграно, что я была бы очень рада, если бы он... пожаловал ко мне... Я буду ожидать его в гостиной.
— Сию минуту, — сказала субретка и убежала.
— «Как знать?»— пробормотала молодая женщина, проходя в гостиную.
Должно быть, двумя этими словами резюмировались все ее мысли.
Час спустя, она, с розовыми щечками и разгоревшимися глазами вертела в руках роскошную белую розу, с наслаждением вдыхая нежный аромат.
По левую ее руку, бледный и изможденный, сидел дон Луис Бельграно. Молодой человек не сводил своих черных печальных глаз с прелестного личика хозяйки дома.
— Так как же, сеньора? — робко спрашивал дон Луис, продолжая начатую беседу.
—Я вам уже сказала, сеньор, все, что находила нужным, и вы напрасно стараетесь переубедить меня, — отвечала молодая женщина, подняв голову и твердо взглянув на своего гостя.
— Однако, сеньора, должен же я...
— Я говорила не о том, что вы должны делать, а о своих собственных обязанностях... Судьба наложила на меня относительно вас священную обязанность, которую я охотно выполняла до сих пор. Эту обязанность я еще не нахожу оконченной. Вам, умирающему, нужно было убежище — я открыла вам двери своего дома, приняла вас и оказала вам все нужные заботы.
— О, сеньора, за это я вам вечно буду признателен! Но...
— Позвольте, я еще не кончила. Действуя таким образом, я только исполнила то, что предписывали мне Бог и человеколюбие, и я остановилась бы на полдороге, если бы согласилась на ваше безрассудное желание. Вы хотите оставить мой дом, будучи еще совершенно больным. Воля ваша, а я этого не в праве допустить, потому что вы этим подвергнете себя страшной опасности... ваши раны раскроются, вы ослабнете, и ваши враги, которые, наверное, всюду выслеживают вас, достигнут своей гнусной цели, — дрогнувшим голосом заключила донна Гермоза, низко склонившись над пышным благоухающим цветком.
— Едва ли меня теперь выследят, донна Гермоза, — заметил молодой человек. — Мигель говорит, что так-таки не удалось узнать, кого в этот памятный вечер не успели дорезать.
— О, Господи! Страшно и подумать об этом! — прошептала донна Гермоза, вся затрепетав. — Вы говорите, что боитесь скомпрометировать меня, сеньор, — продолжала она немного спустя, — но это опасение совершенно напрасно. Я вполне независима, никому не обязана отдавать отчета в своих поступках и на мнение окружающих не обращаю никакого внимания, так как сознаю, что не делаю ничего дурного; напротив, только исполняю христианский долг. Вообще еще раз повторяю вам, что если вы теперь, не дождавшись полного выздоровления, уйдете отсюда, то это благодаря тому, что я не имею права удержать вас насильно. Положим, я понимаю ваше нетерпеливое желание покинуть дом, к которому вас ничто не привязывает, но...
— О, как вы заблуждаетесь, донна Гермоза! — с жаром воскликнул дон Луис, придвигаясь к ней ближе. — Хотите знать, чего я так страстно желал бы? Сказать вам?
— Говорите, — чуть слышно прошептала молодая женщина, усиленно вдыхая аромат розы.
— Я желал бы провести в этом доме всю жизнь!.. До сих пор я жил только тогда, когда видел себя близким к смерти, чувствовал себя счастливым только тогда, когда мне угрожало полное уничтожение, а теперь... О, какая теперь произошла перемена во мне... в моей душе, в моем сердце за последние три недели!.. Вы говорите, что меня ничто не привязывает к этому дому. Напротив, донна Гермоза, ваш дом так привязывает меня, как ничто никогда не привязывало! Но, оставаясь в нем, я подвергаю вас страшной опасности, а потому должен покинуть его... О, донна Гермоза, ради вашей безопасности и вашего спокойствия, я стараюсь забыть о самом себе!..
— Что же это за женщина, которая побоится какой бы то ни было опасности, когда дело идет о спасении человека, которого она... назвала своим другом? — трепещущим голосом произнесла молодая женщина.
— Гермоза! — вскричал дон Луис, схватив ее руку.
— Неужели вы думаете, дон Луис, — продолжала она, не отнимая руки, — что нет женщин, готовых принять участие в благородных защитниках угнетенного отечества?.. Будь, например, у меня брат, жених или муж, который был бы вынужден бежать из своего отечества, чтобы помогать ему издали, если не мог ничего сделать вблизи, то поверьте, что я, ни минуты не задумываясь, последовала бы за ним... Если бы ему угрожал вражеский кинжал, я бросилась бы между ним и этим кинжалом, а если бы он за свою любовь к родине был осужден на смертную казнь, я вместе с ним взошла бы на эшафот и рядом с его головой сложила бы свою.
— Слушая вас, я жалею, что... — тихо начал было молодой человек, но запнулся, не договорил и с глубоким вздохом поник головой.
— О чем вы жалеете, сеньор дон Луис? — также тихо спросила донна Гермоза.
— О чем?.. Неужели вы не понимаете, что происходит в сердце человека, который насильно должен оторваться от места, где он узнал блаженство... где ему стало понятно, что такое... любовь!
— А разве это... так, дон Луис?
— Да, Гермоза! — пылко ответил молодой человек, покрывая бесчисленными поцелуями крохотную ручку, доверчиво покоившуюся в его руке.
Белая роза упала к его ногам. Лицо донны Гермозы сияло счастьем, и хотя уста ее молчали, но глаза говорили яснее слов, что любит и она и любит тоже в первый раз.
— Скажите мне одно только слово, Гермоза, — прошептал дон Луис, склоняясь к молодой женщине.
— Какое, Луис?
— «Люблю»!
Донна Гермоза молча указала ему на лежавшую на полу розу.
— Ах! — воскликнул молодой человек, хватая цветок и поднося его к губам. — Вы отдаете мне эту розу? Да?
— Сегодня еще нет, — едва слышно прошептала она.
— Гермоза! Этот чудный, нежный, чистый цветок — символ вашей души, — разве вы не хотите отдать мне вместе с ним душу, как я отдал вам навеки свою?
— О, не говорите этого, Луис!.. Этот цветок упал в ту минуту, когда вы говорили мне о... любви... Я считаю это дурным предзнаменованием...
— Дурным предзнаменованием! Чего же именно, Гермоза?
— Несчастья, помехи, вообще чего-нибудь печального! — шептала донна Гермоза, глядя полными слез глазами на того, кто стал ей теперь дороже жизни.
— Не понимаю, что может помешать нашему счастью...
— Увы, очень многое в этом якобы лучшем из миров! — вдруг ответил вместо донны Гермозы чей-то веселый мужской голос.
— Мигель! — вскричала молодая женщина, стремительно обернувшись и увидев стоявшего перед ней кузена, незаметно вошедшего в гостиную.
— Я собственной своей особой, — сказал дон Мигель. — Пожалуйста, не пугайся. Я слышал только последние слова Луиса, да и те я давно уже знаю наизусть... Ну-ка, Гермоза, подвинься немного и дай мне место между вами... Вот так, — говорил он, усаживаясь и взяв руки обоих молодых людей.
— Ну, теперь мы потолкуем, — весело продолжал он, пытливо глядя на кузину и друга. — Почему ты так покраснела, кузиночка? А? Луис, а ты с чего так нахмурился?.. А! Вы, очевидно, желаете перемены темы разговора? Извольте, можно и это... Так вот, сеньора кузина, не угодно ли будет вам сообщить мне, как вы решили насчет сегодняшней поездки на бал: сеньора ли Барро должна заехать за вами, или вы заедете за ней?
— Лучше я заеду, — ответила донна Гермоза.
— Отлично! Я так и передам сеньоре Барро. Ну, о чем бы мне еще спросить, чтобы развеселить вас? Э! Да вы уже оба улыбаетесь? Ну, слава Вакху, богу радости и веселья! А я уж боялся, что вы серьезно рассердились на меня за то, что я нечаянно услыхал часть из того, что вам нужно было сказать друг другу после того, как амур... Ну, ну, не буду!.. Я хотел только сказать, что этот очарованный уединенный замок — настоящее обиталище гения любви, и поэтому я намерен просить тебя, Гермоза, уступить мне его на время, когда Гименей своими сладкими узами соединит, наконец, меня и Аврору. Согласна ты на это?
— О, конечно, Мигель!
— Спасибо, кузиночка! Я так и знал, что ты не откажешь мне в этой просьбе... Теперь, скажи мне, в котором часу ты заедешь за Авророй? В десять? Да?
— Нет, это слишком рано.
— Так в одиннадцать?
— Попозже...
— Значит, в двенадцать?
— Да.
— Прекрасно! Следовательно, ты заедешь за Авророй ровно в полночь.. А кто будет провожать тебя до нее?
— Я! — с живостью заявил дон Луис.
— Ты? Нет, кабаллеро, этому не бывать! — возразил дон Мигель.
— Почему?
— А ты разве забыл, что сегодня двадцать четвертое мая? — спросил дон Мигель, пристально глядя на своего друга.
Дон Луис потупился.
— В чем дело? — с живостью спросила донна Гермоза. — Почему дону Луису нельзя провожать меня в закрытой карете именно двадцать четвертого мая?
— Это тебя не касается, милая кузиночка, — ответил дон Мигель.
— А! Значит это — политика?
— Может быть...
— В таком случае я, конечно, не буду настаивать на том, чтобы меня провожал дон Луис.
— Ты у меня умница, Гермоза!.. Возьми кучером Педро, а на запятки посади слугу Луиса. Приехав к Барро, ты сядешь с Авророй в ее карету, а твоя приедет за тобой в четыре часа.
— В четыре часа!.. Неужели я должна пробыть там целых четыре часа! Это слишком много, Мигель!
— Напротив, слишком мало, — возразил молодой человек.
— Но ведь ты знаешь, Мигель, что, отправляясь на этот бал, я приношу жертву...
— Да, я это знаю, Гермоза, но я знаю и то, что эту жертву ты приносишь ради своей собственной безопасности и, быть может, ради спасения Луиса, не забудь этого. Этот бал дается в честь донны Мануэлы. Приглашение на него ты получила от нее через донну Августину Розас, не принять его или пробыть слишком мало времени на этом балу, значит, оскорбить Розасов и навлечь на себя вражду.
— Ах, что мне могут сделать эти люди, когда я от них нисколько не завишу! — воскликнула донна Гермоза. — Вот возьму да совсем не поеду к ним, чтобы показать, как мало я интересуюсь их обществом!
— В самом деле, — подхватил дон Луис, — и я нахожу, что донне Гермозе совершенно не за чем ехать на этот бал....
— И ты это находишь? — насмешливо проговорил дон Мигель. — В таком случае посоветуй ей сегодня же снять голубые драпировки с окон, если она не желает, чтобы завтра явились сюда господа масгорковцы и сорвали их, обыскав, кстати, и весь дом.
— Что?!— вскричала молодая женщина, гордо подняв голову и сверкая глазами. — Да кто же позволит этим негодяям врываться сюда и хозяйничать здесь? Я прикажу своим слугам вышвырнуть их, как бешеных собак и...
— Ого, кузиночка, ты удивительно храбрая женщина! Господам членам Mac-Горки, действительно, пожалуй, не поздоровится, если они вздумают пожаловать к тебе... А как твои раны, Луис? — вдруг спросил дон Мигель, обратившись к своему другу.
Донна Гермоза затрепетала и закрыла побледневшее лицо руками. Дон Луис молчал. Они оба хорошо поняли значение вопроса дона Мигеля.
— Я поеду на бал и пробуду там сколько нужно, — немного погодя заявила донна Гермоза, отирая слезы, катившиеся по ее нежным щечкам.
— Боже мой, все это из-за меня! — вскричал дон Луис, вставая и начиная ходить из угла в угол, хотя каждый шаг причинял ему страшную боль.
— Успокойся, пожалуйста, — сказал дон Мигель, поймав друга за руку и заставив его снова сесть. — Вы оба точно маленькие неразумные дети, которые всеми силами отбиваются от спасительного, хотя и противного лекарства! Поверьте мне, друзья мои, я не стал бы уговаривать ни Гермозу, ни свою невесту ехать на этот бал, если бы не знал, что это необходимо для их собственной и нашей безопасности. На всех нас и так уж начали коситься, а это равносильно тому, что над нашими головами повесили Дамоклов меч. Надеюсь, что вторично мне не придется насильно гнать в звериное логовище никого из дорогих мне лиц: еще немного, я сорву с себя постыдную маску и...
Он вдруг круто оборвал свою речь, провел рукой по лбу и спокойно добавил:
— Итак, значит, решено?
— Решено, — ответила донна Гермоза. — В полночь я буду у своих новых друзей, Барро... Очень жаль, что бал не у них, тогда я поехала бы к ним и без всяких уговариваний с твоей стороны, Мигель... Кстати, не знаешь ты, почему донне Августине так хочется видеть меня?
— Из ревности.
— Как!.. Уж не к тебе ли?
— К несчастью, нет.
— Так к кому же?
— К тебе самой.
— Ко мне самой?!
— Да, именно к тебе самой. Она слышала о твоей красоте, о твоем богатстве, о твоем умении одеваться, — словом, о всех твоих достоинствах. А так как она до сих пор считалась царицей красоты и изящества, то ей хочется поближе познакомиться со своей соперницей.
— Вот как! Ну, что ж, пусть любуется на меня, если ей так хочется! — ядовито произнесла молодая женщина. — Ну, а как же дон Луис? Он останется тут один?
— Нет, я его увезу с собой, — отвечал дон Мигель.
— Сейчас?
— Да.
— Но как же ты повезешь его днем? Ведь ты говорил, что увезешь его к себе на несколько часов ночью!
— Я так и хотел сначала, а теперь передумал...
— Да ведь его могут увидеть, Мигель!
— Не увидят, я приехал в карете.
— В карете? А я и не слыхала, как она подъехала.
— Еще бы тебе слышать! Я знаю, что ты не слыхала, кузиночка.
— Разве ты стал обладать способностью ясновидения, Мигель?
— Кое в чем да, — например, я отлично умею читать по лицам людей, о том что у них творится в душе. Когда я вошел сюда...
— Сеньора, попросите, пожалуйста, вашего кузена замолчать, а то он, кажется, собирается сказать нам глупость! — с многозначительной улыбкой перебил дон Луис, обращаясь к донне Гермозе.
— Из этих слов, — подхватил дон Мигель, — я вывожу заключение, что ты считаешь глупостью ту фразу, которую я услышал при входе сюда...
— Почему ты так думаешь? — весь вспыхнув, спросил дон Луис.
— Потому, что, по-видимому, ты боишься, как бы я не повторил ее.
— Какой вы, однако, насмешник, кабаллеро! — проговорила донна Гермоза, вцепившись своими маленькими пальчиками в его густые волосы и дернув за них так, что он невольно вскричал от боли. — Что с вами? — осведомилась она, делая невинные глаза.
— Ничего, ровно ничего, кузиночка, — поспешил сказать молодой человек, освобождая свои волосы. — Я только думал о том, что ты и Аврора будете самыми хорошенькими женщинами на балу.
— Слава Богу! — воскликнул Бельграно. — Наконец-то, ты сказал умную фразу.
— Спасибо за похвалу, мой друг... Однако, бери шляпу и простись с донной Гермозой.
— Уже?
— Пора.
— Но еще рано!
— Напротив, уже очень поздно.
— Хорошо... Сейчас.
— Нет, не «сейчас», а сию минуту!
— Мигель, сделай мне удовольствие, повидайся пораньше с Авророй, — сказала молодая женщина.
— Зачем? — удивился дон Мигель.
— Чтобы заставить ее отказаться от тебя.
— Что такое?!
— Иначе я заставлю ее сделать это.
— Ты хочешь побудить ее отказаться от меня?
— Ну, да! Разве ты не понимаешь, что я хочу сказать?
— Нет! Я...
— Ну, так я подошлю к ней донну Марию Жозефу, — продолжала лукавым тоном молодая женщина. — Та еще лучше меня сумеет доказать ей, что она будет несчастлива с таким жестокосердечным мужем, как ты.
— Ах, вот оно что!.. Ну, Луис, пойдем скорее, иначе Гермоза Бог весть до чего договорится.
— Покоряюсь! — со вздохом проговорил дон Луис, целуя руку, которую ему протянула молодая женщина.
— Поди, надень плащ и шляпу и садись прямо в карету, она стоит перед твоей дверью. А я пока постараюсь утешить мою милую кузину, — сказал дель Кампо своему другу, провожая его до дверей.
Возвратившись к донне Гермозе, он взял ее за руку и тихо проговорил:
— Милая Гермоза, я все угадываю и одобряю. Поверь, я употреблю все усилия, чтобы устроить ваше счастье... Ведь ты веришь этому? Да?
— Верю, — прошептала молодая женщина дрожащим от слез голосом.
— Луис любит тебя...
— Ты думаешь, что он любит меня? — с живостью спросила она.
— А ты разве сомневаешься в этом?
— Нет, но... я сомневаюсь в самой себе.
— Как так? Разве ты несчастлива этой любовью?
— И да и нет.
— Это не ответ, Гермоза.
— Я говорю то, что чувствую, Мигель.
— Стало быть, ты сама не знаешь, любишь его или нет?
— О, нет! Я люблю его больше всего на свете!
— Так в чем же дело, кузина?
— Я боюсь этой любви, Мигель.
— Почему?
— Потому что все, кого я любила, преждевременно погибли...
— Да ведь всем им пора было умирать, а Луис...
— Иди, Мигель, — со вздохом проговорила молодая Женщина. — Луис, наверное, заждался тебя...
Дон Мигель задумался. Через минуту его карета выезжала со двора, провожаемая печальным взглядом донны Гермозы.
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЧИСЛО
Вечером 24 мая 1840 года Буэнос-Айрес поднял знамя мятежа против ненавистной власти испанцев.
В описываемый нами день справлялась тридцатая годовщина этого исторического события.
Из дворца бывших испанских вице-королей, превращенного Розасом в казармы, струился ослепительный свет.
Обширные гостиные, в которых маркиза Собре-Монте когда-то давала великолепные балы и веселые вечера во время президентства и где при губернаторе Доррего затевалось столько любовных интриг и происходило столько семейных драм, — несколько лет представляли одну печальную картину разрушения, так как, кроме мышей и пауков, в них никто не жил. К этому же вечеру все гостиные были тщательно вычищены, оклеены дорогими обоями и уставлены прекрасной мебелью. Гвардейская пехота давала в них бал в честь дочери Розаса, сеньоры Мануэлы, и поэтому не поскупилась ни на какие расходы. Сам губернатор не мог присутствовать на этом балу, потому что должен был участвовать в официальном обеде, которым сэр Вальтер Спринг отмечал день рождения своей королевы.
Город был роскошно иллюминирован, и на улицах толпились массы народа, гордого воспоминанием о совершенной им тридцать лет тому назад победе, хотя в сущности он очень мало выиграл от этой победы.
Экипажи, спешившие к казармам, продвигались с большим трудом, посреди волнующегося людского моря. Одна из карет, старавшаяся проехать по краю улицы, задела за походную кондитерскую и опрокинула ее. Немедленно толпа со страшными криками окружила плотной стеной экипаж, намереваясь стащить с козел кучера, обвиняя его в том, что он, будто бы, раздавил несколько человек. Явилась полиция и начала искать «искалеченные трупы», которые, по уверению крикунов, лежали под колесами экипажа. Убедившись, что не только нет никаких трупов, но даже ни у кого не имеется ни одной царапинки, причиненной экипажем, полицейские начали, разгонять толпу, которая не подавалась ни на шаг и производила страшный шум.
— Что же ты стоишь? — крикнул повелительный голос изнутри кареты. — Поезжай вперед! Если и раздавишь кого — не беда!
— Сеньор полицейский, — говорил другой, высунувшись из окна экипажа, — кажется в действительности никто не пострадал, но вот вам деньги, раздайте их, пожалуйста, тем, которые жалуются. Помогите нам только выбраться отсюда, мы торопимся и боимся опоздать.
— Конечно, они орут зря, — сказал полицейский, принимая кошелек с деньгами. — У нас все так: горланят из-за каждого пустяка... Сеньоры федералисты, — обратился он к толпе, — пропустите этих граждан. Это добрые федералисты, они спешат по нужному делу о благе и пользе отечество.
— А, ну, пусть они проезжают! — крикнуло несколько человек, очищая место.
Карета покатилась и через несколько минут остановилась на углу улиц Университетской и Качабамба. Из нее вышли четыре человека, один из них приказал кучеру приехать в это же место к половине одиннадцатого. Затем, плотно закутавшись в свои плащи, попарно двинулись по направлению к реке.
Недалеко от дома донны Марселины четверо незнакомцев встретились лицом к лицу с тремя другими, точно так же закутанными в плащи и шедшими от улицы Балькарсе.
Обе группы остановились как вкопанные, и начали с беспокойством всматриваться друг в друга.
— Сеньоры, — первым заговорил один из тех, которые приехали в карете, — позвольте вас спросить: не помешали ли мы нечаянно вашей прогулке.
Тройной взрыв хохота послужил ответом на этот вопрос.
— Э, да это вы!— веселым голосом продолжал спрашивавший. — Как вы нас напугали! Ну, теперь идем вместе.
Обе группы сомкнулись в одну и подошли к дому донны Марселины.
Но вместо того, чтобы постучаться, один из этих незнакомцев нагнулся к замочной скважине в двери и тихо прошептал:
— Двадцать четыре.
Дверь бесшумно отворилась и пропустила всех пришедших, после чего так же тихо затворилась.
Через несколько минут пришла новая партия в четыре человека, потом две по шести; все впускались в Дом, как только они произносили загадочный пароль: двадцать четыре.
Гостиная донны Марселины, куда входили все эти незнакомцы, походила на дортуар, так как вокруг стен были расставлены все наличные в доме кровати с постелями.
Вокруг стола, выдвинутого на середину, стояли стулья и кресло. На столе горели две свечи, оставляя в полутьме углы комнаты.
Прибывающие усаживались где попало: кто на стульях, кто на кроватях, и вполголоса перекидывались отрывистыми замечаниями. По временам кто-нибудь из собрания подходил к окну и внимательно всматривался в темную и пустую улицу.
В ночной тишине ясно прозвучал удар городских часов.
— Половина девятого, сеньоры, — сказал один из пришедших раньше других и оказавшийся нашим старым знакомцем, доном Мигелем дель Кампо, — не явившихся более нечего ждать, раз они не пришли к назначенному времени, значит, вовсе не придут. Объявляю собрание открытым.
С этими словами молодой человек опустился в председательское кресло, приглашая сидевшего на одной из кроватей дона Бельграно пересесть на стул по правую его руку.
Остальные остались на своих местах.
Окна были наглухо закрыты внутренними ставнями, и на стол поставили еще две свечи, так чтобы все собравшиеся ясно могли видеть друг друга.
Самому старшему в этом собрании было лет двадцать шесть. Лида, фигуры, осанка, манеры, костюмы и язык доказывали, что собрание состояло из представителей высшего городского общества.
— Друзья мои, — начал дон Мигель, — вас должно было собраться тридцать четыре человека, но явилось только двадцать три. Но какова бы ни была причина отсутствия одиннадцати человек, никто из нас не заподозрит их в измене и не будет питать ни малейшего опасения за безопасность нашей тайны. Я одинаково ручаюсь как за присутствующих, так и за отсутствующих и считаю своим долгом добавить, что я принял некоторые предосторожности на тот случай, если бы нас здесь накрыли приспешники тирана. На реке, почти под самыми окнами, стоят лодки, готовые принять нас. Все мы хорошо вооружены, и я думаю, нам не трудно будет отделаться от убийц, сколько бы их ни было. Желающих бежать из города мои лодки перевезут на восточный берег, они могут потом возвратиться, если захотят. У наружных дверей стережет мой верный Тонилло; у окна, выходящего на улицу из передней, стоит слуга дона Луиса, такой же верный и преданный человек; наконец, на крыше дома сидит человек, к которому я тоже имею полное доверие, потому что он из одной трусости не выдаст нас. Это бывший учитель чистописания многих из нас. Он не знает, что вы здесь, ему известно только о моем присутствии, и этого вполне достаточно... Довольны вы, сеньоры, этими мерами предосторожности.
— Довольны! Довольны! Мы чувствуем себя после сказанного вами в такой безопасности, как будто находимся не в Буэнос-Айресе, а в Париже, — ответил молодой человек с веселым и беззаботным лицом, играя волосяной цепочкой.
— Ну, положим, — возразил дон Мигель, — едва ли кто из вас чувствует себя здесь в безопасности! Но, я за все отвечаю, потому что все предусмотрел. Теперь перейдем к цели нашего собрания. Вот, сеньоры, первый документ, по поводу которого я хочу посоветоваться с вами. Это список людей, успевших в течение четырех-пяти недель эмигрировать в восточную республику, их сто шестьдесят человек. Все они молоды, сильны и воспламенены любовью к отечеству. Кроме того, я знаю более трехсот человек, собиравшихся бежать при первом удобном случае. Нашлись уже и верные люди, которые берутся переправить их на восточный берег. Таким образом, в скором времени в Буэнос-Айресе будет пятьюстами патриотами меньше. Кроме того, отсюда ушло много молодых людей в предшествовавшие два года. Сейчас я сообщу вам, в каком положении находится армия освободительная и армия внутренних провинций. После действий дона Кристобаля, выигравшего сражение, но проигравшего победу, освободительная армия находится на Арройо-Гранде и осаждает армию Эшагю, загнанную в Пиедрас, в нескольких милях от Бахады. В случае нового сражения вероятность успеха на стороне Лаваля. Если он победит, то перейдет через Парану и откроет наступательные действия против Буэнос-Айреса; если же он будет разбит, то, располагая всеми судами блокады, отправится на север пополнять свою армию, после чего опять-таки двинется против Буэнос-Айреса. Что же касается провинций, то и там лига распространяется с каждым днем. Тукуман, Сальта, Риоха, Катамарка и Жужуй уже отреклись от тирана и вооружаются против него. Монах Альдао не настолько силен, чтобы подавить революцию, а Кордова сдастся при первой серьезной угрозе. У Розаса оставалась надежда только на Ла-Мадрида, но и эта надежда рухнула: Ла-Мадрид тоже объявил себя против него.
— Не может быть?!— вскричали некоторые из присутствующих, вскакивая со своих мест.
— Тише, сеньоры, тише! — остановил их дон Мигель. — Советую вам все-таки не забывать, что вы в Буэнос-Айресе, а не в Париже... Я сказал правду: Ла-Мадрид, посланный Розасом охранять тукуманский арсенал, перешел на сторону инсургентов. Седьмого апреля он втоптал в грязь федеральный значок, установленный Розасом, и приколол к груди голубую с белым ленту свободы.
— Браво! Браво! — кричали молодые восторженные голоса.— Да здравствует свобода!
Один дон Луис Бельграно, погруженный в глубокие думы, сидел молча.
— Тише, сеньоры, тише! — снова остановил их молодой председатель. — Вот документ, подтверждающий мои слова.
Развернув новую бумагу, он вслух прочитал следующее:
«Свобода или смерть!
Общий приказ от девятого апреля тысяча восемьсот сорокового года.
По распоряжению правительства назначаются: главнокомандующим всех линейных войск и милиции в провинции генерал дон Григорио Араос Ла-Мадрид; начальником главного штаба — полковник дон Лоренсо Лугонес; начальником гвардейских кирасиров — полковник дон Мариано Аха ».
Собравшиеся радостно переглядывались, но уже не решались громко выражать своих чувств.
— Как видите, сеньоры, — спокойно продолжал Мигель, — революционное движение разрастается с каждым днем. К сожалению, революция пока еще представляет собой великана, правда, очень сильного, но без головы. Голова-то у него, впрочем, есть, но далеко от тела: она находится в Буэнос-Айресе, поэтому все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы приставить эту голову к телу и сделать таким образом великана способным к действию... Надеюсь, сеньоры, вы согласны со мной в том, что мы должны сделать все от вас зависящее, чтобы обеспечить торжество революции?
— О, да, да! В этом не может быть никакого сомнения!— раздался единодушный ответ присутствующих.
— Я ожидал такого ответа, сеньоры, — продолжал председатель. — Но все-таки опасаюсь, что вы меня не так поняли. Говоря, что голова революции находится здесь, в Буэнос-Айресе, я вовсе не хотел этим сказать, как вы, наверное, подумали, что ее следует взять отсюда и доставить к телу; напротив, она нужна именно здесь, и главная наша задача должна состоять в том, чтобы приставить к ней тело тоже здесь. Поэтому нам следует не эмигрировать, а оставаться. Нас осталось человек четыреста. Армии Лаваля мы собой большой пользы не принесем, — она достаточно сильна и без нас, тут же мы нужны. Эмиграция оставляет город Буэнос-Айрес во власти женщин сомнительной нравственности, злодеев и мас-горковцев, чего ни в каком случае не должно быть. Трехсот или четырехсот мужественных человек вполне достаточно, чтобы поднять изменчивую чернь против Розаса и повесить на уличных фонарях его самого и всех его приспешников в тот день, когда их ошеломит весть о приближении к городу освободительной армии. Мы не можем вернуть тех, которые уже покинули нас, но имеем возможность, если только захотим, остановить эмиграцию, приносящую делу свободы несравненно больше вреда, чем пользы. Я знаю, как опасно оставаться в Буэнос-Айресе, но в настоящую минуту не безопасно и в других местах нашего отечества. Я стою ближе всех вас к Розасу, поэтому ежеминутно подвергается опасности не только моя жизнь, но — что гораздо хуже — и моя честь, которая всеми подогревается. Тем не менее, я остаюсь, ибо сознаю, что покидать в эту минуту Буэнос-Айрес — значит помогать его гибели, а не спасению.
— Я вполне согласен с этим мнением, — сказал один из присутствующих, — и скорее умру под кинжалами Mac-Горки, чем оставлю город. Розас в Буэнос-Айресе. Смерть Розаса — лозунг свободы!
— А вы как думаете, сеньоры? — обратился дон Мигель к остальным.
— Мы все согласны с тем, что нужно прекратить эмиграцию и оставаться в Буэнос-Айресе! — послышалось в ответ со всех сторон.
— Сеньоры! — начал дон Луис, молчавший до сих пор. — Вполне разделяю мнение сеньора дель Кампо и я, хотя я был в числе пытавшихся эмигрировать, да и сейчас не прочь был бы повторить эту попытку. Позвольте мне разъяснить вам это кажущееся противоречие. Я не спорю, что мы все должны бы остаться; не спорю, что мы должны бы не ослаблять, а, напротив, суживать железное кольцо, которым мы окружаем Розаса, чтобы задушить его в тот момент, когда пробьет час свободы Аргентинской республики; но, тем не менее, я нахожу это невозможным.
— Почему? — спросили несколько голосов.
— Я только что хотел объяснить вам это, — ответил Бельграно. — Сеньор дель Кампо находит, что вполне достаточно трехсот или четырехсот человек, чтобы поднять весь город против Розаса. Я тоже согласен с этим, допускаю даже возможность возвращения тех, которые уже эмигрировали, так что вместо четырехсот в стенах Буэнос-Айреса, быть может, наберется и четыре тысячи. Но каждая партия сильна не числом своих приверженцев, а духом солидарности и сплоченностью. Миллион людей, взятых отдельно, слабей десятка соединенных одной идеей, одной волей, одним духом. Изучайте механизм диктатуры Розаса и вы убедитесь, что сила его кроется единственно в разрозненности граждан. Розас давит порознь каждую отдельную личность, врываясь к ней в дом, и производит это с помощью каких-нибудь двух десятков услужливых негодяев, потому что между народом не существует никакой связи, каждый думает только о себе, а через это масса бессильна. Зная это уже давно, я лучше предпочитаю пасть на поле битвы, нежели быть заколотым грязными руками какого-нибудь мас-горковца в своем собственном доме, в ожидании революции, на которую буэнос-айресцы не способны потому, что они чужды друг другу и ничто не связывает их между собой. Найдите способ сплотить их в одно, составить из них крепкий союз, воодушевленный одним духом, одной мыслью и одним чувством, тогда я перестану думать об эмиграции. Я отлично понимаю, что Розас, только один Розас — помеха свободе, и что с устранением этой помехи наше дело выиграно. Значит, прежде всего нужно устранить его.
Общее молчание было ответом на эту речь. Все в глубоком раздумье опустили головы. Один дель Кампо высоко держал голову, обводя пытливым взором лица товарищей.
— Сеньоры, — снова заговорил он после некоторой паузы, — сеньор Бельграно хорошо понял аргентинцев, главная черта характера которых состоит в сепаратизме. Я с той целью и пригласил вас на это собрание, чтобы предложить вам образование тесного союза против Розаca. Пока мы разъединены, наше мужество совершенно бесполезно. Мы стоим на краю вулкана, уже готового к извержению. Убийства четвертого мая знаменуют не конец, а начало террора, который уничтожит нас всех, если мы не соединимся в одно. Только дружный союз может спасти нас и гарантировать нам победу. Поверьте мне, что не даром я ценой своего спокойствия покупаю тайны наших врагов, не даром полный отвращения и презрения, пожимаю окровавленные руки гнусных убийц! Не даром, я иногда даже подстрекаю их на новые злодеяния, чтобы скорее переполнилась чаша терпения наших граждан и чтобы какой-нибудь озлобленный храбрец решился, наконец, в свою очередь, вонзить кинжал в грудь виновника гнета и резни! Порабощенный народ нуждается в одном смелом человеке, в одном призыве к свободе, в одной секунде, чтобы вдруг перейти от тупой покорности к действию, от рабства к свободе.
Лицо дона Мигеля как будто преобразовалось: глаза его метали молнии, а голос звенел и дрожал от волнения.
Лица остальных тоже светились внутренним огнем отваги и энтузиазма. Один дон Луис сидел печальный и угрюмый.
— Да, — вскричал один из молодых людей, — нам следует немедленно организовать союз борьбы с Мас-Горкой, с целью уничтожения Розаса!
— И для того, — подхватил дель Кампо, — чтобы поднять дух солидарности в нашем отечестве, чтобы сделаться сильными и могущественными, чтобы приобрести добродетелей, которых нам недостает, и подняться на одну высоту с европейскими обществами!
— Да,- да! Мы согласны организовать этот союз! — кричали молодые возбужденные голоса.
— Увы! — грустно проговорил дон Луис. — Где уж нам, людям минуты, устраивать подобные союзы? Хотения у нас много, но нет ни умения, ни...
— Молчи, ради Бога! — прошептал дон Мигель на ухо своему другу и затем громко продолжал: — Итак, друзья мои, решено. Мы образуем союз для освобождения нашего отечества от железных оков деспотизма. Я напишу его устав, который, предупреждаю вас, будет очень прост. Тридцать лет тому назад в этот час поднялась заря свободы аргентинцев, вспыхнувшая ярким светом на другой день, двадцать пятого мая, поэтому в истории и отмечено именно двадцать пятое число. Теперь над нашей родиной снова навис мрак деспотизма, и наше сегодняшнее собрание пусть будет новой зарей будущего рассвета вечной свободы. Теперь пора нам разойтись. Прошу вас снова собраться сюда пятнадцатого июня, к половине девятого, вечером. Пусть каждый из вас употребит все силы, чтобы не допустить своих друзей эмигрировать. Если, несмотря ни на что, окажутся желающие покинуть нас, то пусть они обратятся ко мне, и я ручаюсь, что они благополучно будут доставлены на тот берег. Еще одно: не входите со мной ни в какие отношения при других, порицайте меня повсюду с ожесточением и произносите мое имя только для того, чтобы осудить его, как имя человека, увивающегося вокруг тирана и его палачей. Это необходимо для успеха нашего общего дела... Довольны ли вы, сеньоры? Вполне, ли вы доверяете мне?
Все бросились к дону Мигелю и стали его обнимать. Красноречивее этого ответа трудно было желать.
Затем собрание мало-помалу стало расходиться и через несколько минут дон Мигель и дон Луис остались одни. К ним присоединилось новое лицо, которое все время находилось в соседней комнате, и, незамеченное собранием, слышало все.
— Ну, что, сеньор? — обратился к незнакомцу дон Мигель
— Что именно, дон Мигель?
— Довольны вы?
— Нет.
Дон Луис улыбнулся и начал потихоньку ходить взад и вперед по комнате.
— Какое же ваше мнение, сеньор? — продолжал дон Мигель, обращаясь к своему новому собеседнику.
— Мое мнение? По-моему, все вышли отсюда с такими высокими патриотическими чувствами, что сейчас готовы на самые величайшие подвиги, но до пятнадцатого июня половина из них разбежится из Буэнос-Айреса, а другая половина совершенно забудет о союзе, который постановлено составить.
— Если это так, то что же делать, сеньор, что делать? — с отчаянием вскричал молодой человек, ударив кулаком по столу, забывая на минуту уважение, с каким он относился к человеку, прекрасное и мужественное лицо которого дышало умом и энергией.
— Что делать? Стоять на своем и продолжать начатое дело, которое, быть может, окончат наши внуки.
— А Розас? — спросил дель Кампо.
— Розас?.. Розас — грубое олицетворение нашего общественного строя, а этот-то именно строй и поддерживает его против нас.
— А если нам удастся убить его...
— Кто же сделает это? — с улыбкой спросил незнакомец.
— Какой-нибудь мужественный человек, — ответил дон Мигель.
— Вы ошибаетесь, сеньор дель Кампо. Для того, чтобы убить человека, хотя и тирана, нужно быть или подлецом,- способным продать свой кинжал за деньги, а такого не найдется между людьми нашей партии, или же фанатиком, таких тоже нет не только между нами, но и вообще в наше время.
— Но что же делать? — повторил молодой человек, с отчаянием глядя на незнакомца.
— Повторяю — работать, не забывая той истины, что капля долбит камень, и ждать результата в будущем. Так ведь, Бельграно? — обратился он к дону Луису.
— Увы, да, сеньор! — со вздохом ответил последний.
— Однако, пойдемте, друзья мои. Бог наградит вас за вашу любовь к родине.
— Идемте, сеньор, — ответили молодые люди, следуя за человеком, который, очевидно, имел на них большое влияние.
На улице, у самых дверей, стоял Тонилло.
— Приехала наша карета? — спросил дон Мигель.
— Уже с полчаса стоит на углу, сеньор, — ответил слуга.
Пробило одиннадцать часов. Дон Луис позвал своего камердинера, который ожидал приказаний, и вместе с ним и незнакомцем, поддерживавшим его под руку, направился к карете.
Между тем дон Мигель со своим слугой вышел во двор дома и тихо свистнул.
— Я здесь, — отозвался откуда-то с вышины тонкий и дрожащий голос. — Могу я, наконец, сойти с этой холодной, мрачной и страшной высоты, мой милый и уважаемый Мигель?
— Можете, можете, дорогой и уважаемый учитель, — отвечал молодой человек, подражая голосу и тону дона Кандидо Родригеса.
— Мигель, ты не только губишь мое здоровье, но, быть может, и мою душу! — продолжал учитель каллиграфии, подходя к своему бывшему ученику.
— Пойдемте, сеньор, нас ждут в карете, — произнес последний, взяв под руку старика.
Когда они сели в экипаж, а слуги стали на запятки, кучер погнал лошадей. Карета понеслась по направлению к улице Реставрадора. Проехав эту улицу до половины, карета остановилась и высадила незнакомца, затем она покатилась далее и остановилась перед домом дона Мигеля, куда последний и ввел своих спутников, дона Луиса и дона Кандидо.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЛ
Первая кадриль на балу, даваемом в честь дочери губернатора, окончилась в одиннадцать часов.
Громадные залы, освещенные сотнями восковых свечей, распределенных очень неумело, но тем не менее, довольно ярко светивших, были полны нарядной толпой. Золотое шитье мундиров чиновников и военных и бриллианты дам ослепляли.
Несмотря на многолюдность, обычного в таких собраниях веселого оживления не замечалось. Это объяснялось тем, что на балу сошлись два враждебных лагеря. Федералам, людям новым, вышедшим по большей части из уличной грязи и достигшим по милости Розаса высокого положения в обществе, мало, а то и вовсе не знавшим светских обычаев, было неловко в их костюмах, в блестящей обстановке и в кругу природных аристократов. Последние же, так называемые унитарии, приехавшие на этот бал из опасения, что их отсутствие может быть истолковано в дурную сторону, с высокомерием и презрением смотрели на грубых и вульгарных выскочек.
Дочь Розаса, донна Мануэла, одетая просто, но со вкусом, со всеми одинаково приветливая и любезная, была очаровательна.
Бедная девушка сама была жертвой своего отца. Добрая, честная и наивная по природе, она не принимала никакого участия в кипевшей вокруг нее глухой борьбе; все знали это, поэтому не только не трогали ее, но даже ради нее старались сдерживать клокотавшую в них злобу против ее отца.
Общее внимание приковывала к себе и донна Августина Розас Манчилла, двадцатипятилетняя женщина, справедливо считавшаяся первой красавицей в Буэнос-Айресе.
В описываемое нами время эта младшая сестра Розаса, жена генерала Манчиллы, не играла еще никакой политической роли; не принимая никакого участия в борьбе между федералами и унитариями, она думала только об удовольствиях. Вмешаться в политику, и то не по своей воле, ей пришлось позже, во время палермских сатурналий и внешних осложнений событий, разыгрывавшихся в Аргентинской республике.
Донна Августина прохаживалась по залам под руку со своим мужем, приветствуемая на пути одобрительным шепотом толпы, восхищавшейся ее красотой, когда на балу появились две новых звезды: донна Гермоза и донна Аврора. Обе они были так хороши и так роскошно одеты, что смело могли соперничать с донной Августиной, которая, впрочем, первая стала восхищаться ими.
Обеих подруг тотчас же окружила толпа кавалеров, наперебой приглашавших красавиц на кадриль. Однако донна Аврора приняла приглашение только одного из приятелей дона Мигеля, а донна Гермоза совсем отказалась от танцев и, ни с кем не знакомая, инстинктивно подсела к кружку жен унитариев.
Случай заставил ее сесть рядом с пожилой дамой, походившей на маркизу времен Людовика XIV или вице-короля Песуэлы, в Мексике. Обе дамы быстро познакомились и разговорились. Старушка знала всех гостей и, убедившись, что донна Гермоза не принадлежала к партии федералов, начала остроумно описывать ей биографии проходивших мимо. Дон Педро Ксимено, комендант порта, генерал Манчилла, дон Мануэль Ларрасабал, дон Лоренсо Торрес, дон Бальдомеро Гарсиа, Николас Маринио и все остальные высокопоставленные лица, игравшие главные роли в федерации, были беспощадно разоблачены сеньорой. Особенно досталось от нее Николасу Маринио.
Этот человек, некрасивый, вульгарный и напыщенный, стоял в нескольких шагах от донны Гермозы, облокотившись о спинку пустого стула, и с таким неприличным упорством глядел на прелестную вдову, что та, вся красная и смущенная, наконец, села к нему чуть не спиной.
— Вы не знаете сеньора Маринио? — спросила старуха, забавляясь этой сценой.
— Нет, — ответила донна Гермоза.
— Он не спускает с вас глаз. Это для вас громадная честь! — насмешливо продолжала остроумная старуха. — Вы сразу покорили его сердце, — сердце редактора «Газеты» и начальника знаменитого корпуса наших алгвазилов! Вы не шутите с этим сеньором. Это человек очень серьезный, он не пропускает ни одного дня, чтобы не покричать в своей «Газете» о неотлагательной необходимости перерезать всех унитариев. Боже, какие он делает меланхолические глаза, глядя на ваш затылок! Но вот к нему подходит супруга, она, наверное, избавит нас от его соседства.
— Так эта дама в красном платье с желтой и черной отделкой и с золотой стрелой в волосах сеньора Маринио?
— Да... законная обладательница его сердца.
— А кто эти четыре человека в мундирах, столько времени молча стоящие в углу?
— Первый, тот, который ближе сюда, полковник Сайта Колома, он же и мясник...
— Мясник?!
— Да, он одинаково успешно режет и скот и людей. Второй — комендант Маэстре, мошенник. Третий — полковник Саломон, владелец колониальной лавчонки.
— Сразу видно, что он лавочник, — заметила донна Гермоза. — Вероятно, и четвертый принадлежит к той же категории.
— О, нет, вы ошибаетесь, сеньора, это генерал Пинтос, настоящий кабаллеро и храбрый воин. Он так же, как и мы, против воли вынужден вращаться в среде этих подонков, поднятых судьбой на вершину.
— А кто эта дама, которой вы сейчас так дружелюбно поклонились, сеньора Негрета? — осведомилась донна Гермоза.
— Разве вы и ее не знаете?
— Да нет же. Я никуда до сегодняшнего вечера не выезжала, ни у кого не бывала и решительно никого не знаю.
— Ах, да! Это жена генерала Роллона, женщина превосходная во всех отношениях. Мы с ней очень дружны. К несчастью, новые связи ее мужа, заключенные им в силу горькой необходимости, заставили ее немного опуститься и забыть светские обычаи. Так, например, она на своих пригласительных билетах объявляет... как вы думаете, о чем она объявляет?
— Вероятно, о дне и часе собрания, на которое приглашает.
— Это само собой разумеется. А о чем еще, по-вашему?
— О роде этого собрания?
— И это не то! Она докладывает приглашаемым еще о том, что у нее будет подаваться кофе со сливками! Бедная Хуана! В конце концов она совсем превратится в разбогатевшую кухарку!
В это время в дверях залы показался дон Мигель. Переглянувшись издали с донной Авророй, которая прохаживалась под руку со своим кавалером, молодой человек поспешно подошел к своей кузине.
Сеньора Негрета довольно холодно ответила на его поклон, но он сделал вид, будто не замечает этого и предложил руку донне Гермозе, с которой быстро удалился.
— Ты много разговаривала с этой дамой? — спросил он.
— Нет, Мигель, но она говорила много.
— Знаешь ты, кто она?
— Сеньора Негрета.
— Да. Это самая несносная, высокомерная и злоязычная из всех наших дам... Что она тебе рассказывала, когда я подходил? Ты так весело улыбалась, наверное, какой-нибудь смешной анекдот.
— Она рассказывала, что сеньора Роллон объявляет на своих пригласительных билетах о том, что у нее будет кофе со сливками.
— Ну, вот еще выдумала!
— Разве это неправда, Мигель?
— Конечно, нет. Это одна из тех злых насмешек, которыми унитарии, за неимением другого орудия борьбы, колят федералов. Ты давно здесь?
— Минут двадцать.
— Ты была уже представлена Мануэле Розас?
— Нет.
— А Августине?
— Тоже нет. Я случайно познакомилась с одной сеньорой Негретой.
— Ну, а что же делала Аврора?
— Танцевала.
— А! Она танцевала?..
— Да, все время...
— С кем?
— Вон с тем молодым человеком, с которым сейчас ходит под руку... Кстати, кто это?
— Один из моих хороших друзей. Однако вот идет Мануэла. Я представлю тебя.
— Прикажешь мне в виде приветствия этой сеньоре крикнуть «Да здравствует федерация!» или еще что проделать в роде этого? — спросила донна Гермоза, с плутовской улыбкой взглянув на своего кузена.
— Ничего не нужно, кроме вежливости и приветливости, — ответил дон Мигель. — Мануэла единственный хороший человек в семье Розаса. Может быть, со временем отец и пересоздаст ее по-своему, но пока в ней нет ни одной капли зла. Говорю тебе это, чтобы ты знала, как к ней относиться, — заключил он шепотом.
Догнав Мануэлу, он подвел к ней свою даму и с глубоким поклоном произнес:
— Моя кузина, сеньора Гермоза Саэнс де Салаберри, желает иметь честь изъявить вам, сеньорита, свое искреннее уважение.
Донна Мануэла очень любезно протянула руку донне Гермозе и пригласила ее сесть с собой, между тем, как сеньор дель Кампо, попросив у своей дамы позволения оставить ее на минуту, пошел отыскивать затерявшуюся в толпе донну Аврору.
— Будьте добры, сеньорита, — обратился он к своей невесте, когда наконец нашел ее, — укажите мне, где я могу найти донну Аврору Барро.
— Вон там, — с лукавой улыбкой ответила девушка, указывая на громадное зеркало, перед которым они в эту минуту стояли.
— А! Очень вам благодарен! Но она так далеко, что я, к своему величайшему сожалению, не могу пригласить ее на следующую кадриль, как бы мне того хотелось.
— Да она уже приглашена, — проговорила донна Аврора. — Вот этот сеньор может подтвердить вам, что следующая кадриль обещана ею, — добавила она, указывая кивком головы на своего кавалера, бывшего невдалеке.
— А могу я узнать, кто этот счастливый избранник? — продолжал дон Мигель.
— Ваш покорнейший слуга,— ответил другой человек, подошедший в эту минуту к ним.
Это был тот самый незнакомец, который невидимо присутствовал на собрании в доме донны Марселины.
— О, да это настоящий заговор против меня, как я вижу! — воскликнул дель Кампо.
— Совершенно верно, кабаллеро, — грациозно приседая, подтвердила молодая девушка.
— Хорошо, пусть так, — сказал дон Мигель. — Постараюсь утешиться в своем несчастье и отыскать другую донну, похожую на донну Аврору.
Сделав общий поклон, он возвратился к своей кузине, все еще сидевшей с донной Мануэлой Розас.
Обе молодые женщины поняли друг друга с первых же слов. Чистосердечие дочери свирепого диктатора очаровало донну Гермозу и в несколько мгновений заставило забыть все ее предубеждения против нее.
Они беседовали как старые знакомые, когда с одной стороны к донне Гермозе подошел ее кузен, а с другой — к дочери Розаса — приблизился полковник дон Мариано Маса. Вслед за этими двумя кавалерами появился и дон Николас Маринио, редактор «Газеты» и начальник алгвавилов.
Начинался вальс. Полковник Маса подал руку донне Мануэле, которая тотчас же встала. Следуя его примеру, редактор подставил свою руку молодой вдове, бормоча что-то невнятное и буквально пожирая ее глазами.
Не говоря ни слова, дон Мигель взял свою кузину за руку, заставил ее встать и, обратившись к сеньору Маринио, замершему в позе вопросительного знака, с тонкой улыбкой проговорил:
— Сеньора уже приглашена.
После вальса донны Аврора и Гермоза сели рядом. Через минуту к ним подошли под руку донны Мануэла и Августина. Дон Мигель стал за стульями своей невесты и кузины, зорко наблюдая за всем происходившим в зале.
Дочь Розаса представила молодую вдову донне Августине. Завязалась оживленная болтовня.
Все эти четыре женщины, молодые и прелестные, должны были с первого взгляда или возненавидеть друг друга или полюбить. К счастью, симпатия взяла верх.
Немного погодя к этой группе подошли еще двое: толстый, низенький, черномазый мужчина, сеньор Ривера, доктор медицины и хирургии, с супругой, донной Мерседес, урожденной Розас, второй сестрой губернатора.
Эта дама отличалась высоким ростом, пышным станом и бескровным лицом.
— Я везде искала тебя, Августина, — оказала сеньора Ривера своей сестре.
— Ну, вот и нашла, — ответила та. — Что тебе угодно?
— Мне страшно жарко, моя милая. Пойдем ужинать.
— Уже?
— Да, кажется, пора... Как ваше здоровье, сеньор дель Кампо? — обратилась она к дону Мигелю.
Молодой человек молча поклонился.
— Что это с вами сделалось в последнее время, сеньор? — продолжала она, играя веером.
— В каком отношении, сеньора?
— Да хоть в том, что вас нигде не видно. Пропадаете, вероятно, у какой-нибудь таинственной, никому неведомой красавицы? Эта дама ваша кузина? — вдруг спросила она, указав на донну Гермозу.
— Да, сеньора, это донна Гермоза Саэнс де Салабери, которую и имею честь представить вам.
— Очень рада познакомиться с вами, — обратилась сеньора Ривера к донне Гермозе, подавая ей руку. — Так как дон Мигель, по-видимому, очень занят в последнее время, то я и не осмеливаюсь беспокоить его просьбой привезти вас ко мне, а потому прошу вас пожаловать запросто, без него и когда вам вздумается. Если желаете, мой муж может заехать за вами... Вот мой муж, доктор Ривера. Вы не знакомы?
— Не имела чести...
— Велика честь! Если бы вы знали, что это за ужасный человек! Просто покоя мне не дает со своими ухаживаниями. Я говорю это при всех, чтобы пристыдить его. Слышишь, муженек?
— Слышу, Мерседес, слышу. Но ты напрасно жалуешься на меня.
— У, бесстыдник! — погрозила она пальцем.
Донна Гермоза с удивлением смотрела на эту даму, язык и манеры которой поражали своей вульгарностью.
Кстати, донна Мерседес была особа вполне незлобивая и совершенно безвредная, отличаясь только неумением держать себя.
Полковник Маса, бывший кавалером донны Мануэли, подошел вести ее к столу. Дочь Розаса встала. Все последовали ее примеру.
Федеральные дамы старались не отставать от донны Мануэлы, чтобы иметь честь сесть возле нее, а унитарийки, наоборот, быть как можно дальше от нее, обменивались многозначительными взглядами и улыбками по адресу первых.
Таким образом, общество само собой разделилось на две группы, резко отличавшиеся одна от другой.
Сеньора Негрета подошла к донне Гермозе и шепнула ей на ухо:
— Поздравляю вас с новыми друзьями.
Молодая вдова молча улыбнулась.
— Я понимаю эту улыбку, — продолжала старуха.— Но это знакомство может иметь важные последствия.
— Для меня? — спросила донна Гермоза, невольно остановившись и с тревогой заглядывая в лицо своей собеседнице.
— Да, именно для вас, моя дорогая.
— В чем же дело? Скажите, ради Бога, сеньора!
— Маринио сейчас чуть не во всеуслышание сказал одному человеку, что пусть черт его поберет, если он не сделает вас своей... возлюбленной.
— О! Только-то? Ну, эта угроза не страшна, сеньора, и аппетита моего не испортит.
— Напрасно вы так легко относитесь к моему предупреждению, — проговорила слегка обиженным тоном сеньора Негрета. — Вы не знаете, какой опасный человек этот Маринио.
— По-моему, совсем не опасный, а просто глупый, — возразила молодая вдова, продолжая идти вперед.
Дон Мигель, уже находившийся в столовой, был как на иголках, не понимая, что могло задержать кузину, которой он приготовил место возле своей невесты. Увидав, наконец, ее, он облегченно вздохнул и поспешил к ней навстречу, чтобы усадить.
Ужин начался. На верхнем конце стола сидела донна Мануэла, имея по левую руку министра внутренних дел, дона Мануэля Инсиарте, а по правую — британского посланника сэра Вальтера Спринга, который только что приехал, проводив до дому губернатора, бывшего у него на обеде. Рядом с министром внутренних дел помещалась донна Августина, а возле сэра Вальтера — донна Мерседес, имевшая соседом с другой стороны сардинского консула.
Остальные гости разместились как попало. Нижний конец стола занимал генерал Манчилла. Прочие столпы федеральной партии — полковник Саломон, Санта-Колома, Креспо, комендант Маринио, доктора Торрес, Гарсиа и Гонзалес Пениа, депутаты Гарригос и Белостегюи и многие другие стояли за стульями дам, проклиная церемониймейстера, осудившего их играть роль дамских угодников, между тем, как им хотелось бы попировать без стеснения.
На лбу Саломона пот выступал крупными каплями, и несчастный толстяк немилосердно сопел и пыхтел, терзая нервы своей дамы. Санта-Колома отчаянно дергал свои усы, очевидно, желая вырвать их с горя, а Креспо кашлял так, что можно было опасаться, как бы у него не разорвалась грудь. Вообще все эти кавалеры выглядели истинными мучениками.
Сначала царствовало гробовое молчание, нарушаемое лишь стуком ножей и вилок, так что получалось впечатление похоронной трапезы.
Тягостное молчание было нарушено генералом Манчиллой, отлично понимавшим причину этого молчания и находившим, что если оно продолжится, то положение всех собравшихся сделается невыносимым.
— Сеньоры! — провозгласил он, вставая с бокалом в руке и с любезной улыбкой обводя взглядом всех гостей.
Все встали.
— Пью, — продолжал он, — за здоровье первого человека нашего века, того самого человека, которому предназначено судьбой истребить гнусных дикарей-унитариев и который сумеет принудить Францию преклонить колени перед его правительством, — героя пустыни, знаменитого реставрадора законов, бригадира дона Хуана Мануэля Розаса! Пью также за здоровье его дочери, родившейся в тот день, годовщину которого мы празднуем теперь для чести и славы Америки!
Тост этот был принят с выражениями бурного восторга. Лед был сломан. Угрюмость исчезла, уступив место непринужденности.
— Сеньоры! — закричал депутат Гарригос, поднявшийся тоже с бокалом в руке. — Выпьем за здоровье американского героя, показывающего Европе, что мы можем обойтись без нее, как на днях еще сказал в нашей палате знаменитый федерал сеньор Анхорена! Выпьем за то, чтобы Европа научилась нас уважать, и чтобы она поняла, что тот, кто во всей Америке победил армии дикарей-унитариев, продавших себя французам за их гнусное золото, может заставить задрожать и ее, эту высокомерную старуху-Европу! Выпьем также за здоровье его знаменитой дочери, второй героини федерации, сеньориты донны Мануэлы Розас Эскурра!
Если уж тост генерала Манчиллы возбудил энтузиазм, то этот второй тост, провозглашенный депутатом, положительно свел всех с ума. Бокалы были опорожнены до последней капли, не исключая и того, который находился в руке сэра Вальтера Спринга, несмотря на угрозу Европе.
— Сеньоры! — вскричал вслед затем президент Народного общества, заметив знаки, которые ему делал дон Мигель. — Пью за долгую жизнь знаменитого реставрадора законов! За бесконечное прозя... прозре... то бишь, за процветание федерации и Америки! За... Словом, сеньоры, да здравствует знаменитый реставрадор! Да здравствует его знаменитая дочь, родившаяся сегодня, и да погибнут все гнусные унитарии и все нечестивые еретики-идиоты!
Гром рукоплесканий покрыл тост этого массивного столпа священной федерации. Оба представителя иностранных держав млели от восторга, вызванного в них этой блестящей импровизацией, и с истинным увлечением осушили вновь свои бокалы.
Только донна Гермоза и донна Аврора сидели бледные и дрожащие, не понимая, что вокруг них происходит, бокалы их так и оставались нетронутыми.
Дон Мигель казался душой всего общества, он знаками наставлял Саломона и Санта-Колому, одобрял взглядом и кивками головы Гарригоса, улыбался донне Мануэле, послал цветок донне Августине, а донне Мерседес — конфеты, и между всем этим делом находил время шепнуть своим дамам, Гермозе и Авроре, за которыми стоял:
— Пейте, ради Бога!
— Никогда! — ответила с движением ужаса донна Гермоза.
— Пейте, я вам говорю! — настаивал дон Мигель.
Взглянув ему в лицо, донна Аврора поняла, что он не шутит, и сказала своей подруге:
— Выпьем, Гермоза, если не за то, за что велят эти кабаллеро, то за наших друзей, ведь нам нет необходимости объявлять об этом. Но смотрите, Гермоза, донна Мануэла делает вам знак.
Действительно, дочь Розаса делала молодой вдове приветственный знак бокалом, на что та поспешила ответить тем же.
— Сеньоры, — заговорил комендант Маринио, то и дело бросавший жгучие взгляды на донну Гермозу, — пью за здоровье героя Америки и его дочери! За смерть всех гнусных дикарей-унитариев, какого бы они ни были вероисповедания! Пью также за красавиц Аргентинской республики! — заключил он с новым пылким взглядом, брошенным на молодую вдову.
Потом провозгласили тосты генералы Голлон и Пинедо. Но шум был так велик, что им пришлось кричать во всю силу легких, чтобы обратить на себя внимание. После них предлагал новый тост полковник Креспо, который вынужден был встать на стул для привлечения на себя внимания.
— Сеньоры! — вдруг снова рявкнул на всю залу полковник Саломон. — Знаменитая сестра его превосходительства, нашего славного отца, донна Мерседес, приказала мне просить вас несколько утихомирить ваш федеральный восторг, потому что ей угодно прочесть стихи своего сочинения.
Все общество мгновенно затихло и устремило свои взоры на Донну Мерседес.
Федеральная поэтесса подавала небольшую розовую бумажку стоявшему за ней мужу. Тот не брал. На выручку ей подскочил генерал Манчилла. Взяв бумажку, которую с улыбкой уступила ему поэтесса, он сначала пробежал эту бумажку своими холодными насмешливыми глазами, потом, приняв важный вид и встав в соответствующую позу, посреди мертвой тишины прочел следующее стихотворение:
«На высоте неба сияет солнце, освещая своими лучами землю, и, выглянув из-за туч, взывает к земле: «Смерть дикарям-унитариям!» Полная ужаса и страха, земля трепещет от полюса до полюса. Но вот встает федерал! Отечество воспрянет духом и осушит свои слезы. Ни еретики, ни Европа, ни ее короли не могут наложить на нас железных оков. И где бы ни находились федералы, везде затрепещут, даже в могилах, враги святого дела, пусть им и в могилах не будет покоя!
Мерседес Розас де Ривера».
Стихотворение это произвело различное впечатление. Саломона, Гарригосса, Санта-Колома и их единомышленников оно привело в необузданный восторг, а дона Мигеля, Манчиллу и многих других заставило внутренне или беситься от негодования или хохотать, смотря по характеру. Федеральные дамы с приличным случаю закатыванием глаз и другими ужимками находили, что лучших стихов как по форме, так и по содержанию, никогда не было, а дамы противоположного лагеря вдруг почувствовали после чтения этих стихов приступы такого жестокого кашля, что должны были приложить платки ко ртам.
Тосты еще долго продолжали следовать один за другим, но наконец они истощились, и ужин кончился.
Общество возвратилось в танцевальный зал, и музыка снова заиграла кадриль. Впрочем, многие федералы остались в столовой, где, радуясь тому, что избавились от дам, продолжали пировать уже во всю, допивая вино и доводя свое патриотическое воодушевление до высших градусов.
Считая этот момент благоприятным, дон Мигель решил воспользоваться им, чтобы побудить присутствовавших открыть свои тайные мысли и тем окончательно сделать их своими орудиями для выполнения задуманного им плана.
Проводив своих дам, он возвратился в столовую, сел между генералом Манчиллой и полковником Саломоном и, подняв бокал, громко произнес:
— Сеньоры, я пью за того федерала, который первый будет иметь, честь обагрить свой кинжал в крови рабов Луи-Филиппа, находящихся между нами и выжидающих благоприятного случая, чтобы упиться кровью благородных защитников американского героя, нашего вельможного и славного реставрадора!
Никто до сих пор не имел мужества так открыто, ясно и определенно выразить общую мысль, и потому тост молодого человека был встречен с бешеным восторгом. Долго не умолкал гром рукоплесканий и гул одобрительных криков. Даже генерал Манчилла, этот тонкий и проницательный человек, был обманут и поверил искренности дона Мигеля, хотя про себя и удивлялся развращающему влиянию этого смутного времени даже на такой характер и ум, какими обладал молодой дель Кампо.
Исполнив то, что считал великим, хотя и крайне тягостным долгом, то есть заронив искру в бочку с порохом, дон Мигель, удрученный и печальный, прошел опять к танцующим, отыскал свою кузину и сказал ей:
— Поедем, Гермоза.
— Что с тобой? — спросила молодая женщина, испуганная его бледным и расстроенным лицом.
— Ничего особенного, — с горечью ответил он. — Я только пожертвовал своим честным именем для спасения отечества. Не спрашивай меня больше ни о чем, Гермоза, прошу тебя. Пойдем отыскивать Аврору... Да вот и она! Аврора, идем!
Все трое сели в одну карету, которая высадила донну Аврору у дома ее родителей, потом, проехав шагов пятьдесят дальше, она остановилась у другой кареты.
— Ты здесь, Луис? — шепотом спросил дон Мигель, наклоняясь к полуопущенному окну кареты.
— Здесь, — также шепотом послышался ответ.
— Ну, пересаживайся скорее сюда, а я займу твое место.
Дверцы экипажей одновременно отворились, и молодые люди пересели из одной кареты в другую. После этого дверцы захлопнулись, и обе кареты помчались по разным направлениям. Карета, в которой теперь сидели дон Луис и донна Гермоза, рысью покатилась в Барракас.
Через несколько минут, во время которых молодая женщина рассказывала свои наблюдения и впечатления на балу, карету нагнали трое всадников. Двое преградили дорогу лошадям так неожиданно, что старый Хосе, сидевший за кучера, едва успел их сдержать, а третий подъехал к дверце и сладким, но дрожащим от быстрой скачки голосом произнес:
— Не бойтесь, сеньора. Мы люди мирные и не хотим причинить вам зла, напротив, желаем только охранять вас. Я знаю, что вас провожает сеньор дель Кампо, но место, по которому вам нужно ехать, пустынное и небезопасное, поэтому я поспешил догнать вас, чтобы помочь сеньору дель Кампо защитить вас в случае надобности.
Хосе и слуга дона Луиса, стоявший на запятках, приготовились выстрелить во всадников при первом их подозрительном движении. Дон Луис схватился за кинжал, спрятанный у него в боковом платье камзола.
— Это Маринио! — прошептала донна Гермоза, наклонившись к своему спутнику.
— Маринио? — с изумлением повторил молодой человек.
— Да... Это сумасшедший какой-то.
— Нет, не сумасшедший, а просто негодяй! Сеньор,— продолжал дон Луис, возвысив голос, — эта дама имеет достаточную защиту во мне, поэтому я прошу вас и ваших спутников удалиться.
— Я говорил не с вами, сеньор дель Кампо, — ответил Маринио.
— С вами говорит вовсе не... — начал было дон Луис.
— Молчите, ради Бога! — перебила донна Гермоза, зажимая ему рот рукой. — Сеньор, — крикнула она Маринио, — благодарю вас за вашу любезность, но прошу вас удалиться, так как не имею надобности в ваших услугах.
— Это его-то просить! — кипятился дон Луис, стараясь отворить дверцу кареты.
Но молодая женщина энергично воспротивилась этому.
— Мне кажется, — сказал Маринио, услыхавший последние слова Бельграно, — этот господин не привык к обращению с порядочными людьми.
— Порядочные люди, останавливающие по ночам кареты, подвергают себя опасности быть принятыми за разбойников! Педро, вперед! — крикнул дон Луис таким громким и резким голосом, что всадники, загородившие дорогу, невольно заставили своих лошадей попятиться назад.
Карета снова покатилась. Маринио несколько шагов проскакал с ней рядом.
— Знайте, сеньора, — хрипел он вне себя от ярости, — что я относился к вам как друг, а теперь... Словом, я человек, который никогда не забывает оскорблений!
Произнеся эту скрытую угрозу, он поклонился, повернул лошадь и скрылся вместе со своими спутниками.
Когда молодые люди доехали до дома донны Гермозы и дон Луис прощался с ней в гостиной, он заметил, что она очень бледна и едва удерживает слезы.
— Что с вами? — спросил он, наклоняясь над ней. — Вам нездоровится?
— Нет, но я боюсь...
— Кого?
— Этого человека, который...
— Негодяя Маринио? Есть кого бояться!
— Но я чувствую, он навлечет на меня несчастье.
Все старания дона Луиса успокоить взволнованную молодую женщину привели только к тому, что он сам заразился ее опасениями и остаток ночи провел в тяжелом размышлении.
В МОНТЕВИДЕО
В прекрасной гавани Монтевидео качалось на якорях более девятисот кораблей, напоминавших своими мачтами громадный пальмовый лес, потрясаемый бурей.
Стояла великолепная июльская ночь. На небе не было ни одного облачка, и круглый диск луны сиял во всей своей магической красоте.
С семи часов вечера на горизонте показалась подвижная точка, похожая на одного из тех южных голубей, которые, увлекаемые ветром с берегов Патагонии, носятся над поверхностью моря, то исчезая, то вновь появляясь в волнах, пока их не подгонит воздушное течение в гавань или на утесы.
Точка эта оказалась китоловным судном, быстро приближавшимся к порту. На судне было четверо людей: два матроса, его хозяин, сидевший у руля, и пассажир, закутанный в каучуковый плащ. Пассажир этот был дон Мигель дель Кампо.
— Далеко еще до гавани, Дуглас? — спросил дон Мигель, обращаясь к рулевому и глядя на свои часы, показывавшие полдесятого.
— Нет, дон Мигель, — ответил рулевой с сильным английским акцентом. — Мы скоро причалим к правой стороне форта.
— Какого именно?
— Форта Сан-Хосе.
— Разве там есть пристань?
— Есть, обыкновенная стоянка лодок с военных кораблей.
Действительно, через четверть часа судно подошло к маленькой пристани, совершенно пустой в это время. Дуглас вышел вслед за доном Мигелем на берег и повел его по глухим переулкам предместья. Остановившись перед небольшим домом, англичанин указал на него и сказал:
— Здесь, сеньор.
— Хорошо. Ждите меня в гостинице Пара. Займите там для меня комнату, на случай, если нам придется здесь ночевать.
— Но как вы найдете дорогу по незнакомым улицам, сеньор?
— Меня проводят отсюда.
— Не спросить ли мне сначала, дома ли тот, кого вы желаете видеть?
— Не нужно. Если его и нет дома, я подожду. Идите.
Дуглас удалился. Оставшись один, дон Мигель сильно стукнул два раза дверным молотком.
— У себя господин Буше де Мартиньи? — спросил он у слуги, отворившего дверь.
— У себя, — ответил тот, внимательно осматривая молодого человека.
— Передайте ему вот это.
При этом Мигель дал ему половину визитной карточки.
Слуга взял визитную карточку и остановился в нерешительности, не зная, запереть ли ему дверь под носом у незнакомца, за поясом которого он заметил два пистолета, или рискнуть оставить ее отворенной. Однако осанка молодого человека внушила ему такое уважение, что он не решился оскорбить его выражением недоверия и, не заперев двери, удалился. Через минуту он возвратился и вежливо пригласил позднего посетителя войти.
Дон Мигель разделся в передней, положил там же на стол свои пистолеты, пригладил волосы и вошел в гостиную, где хозяин дома, Буше де Мартиньи, агент французского правительства, читал газету, сидя перед ярко пылавшим камином.
Темные глаза француза, человека еще молодого, красивого и изящного, пытливо впились в благородное и умное лицо дона Мигеля. Наружность молодого аргентинца, очевидно, сильно поразила француза, потому что у него вырвалось восклицание удивления.
— Вы, вероятно, ожидали увидеть в вашем корреспонденте старика? — на прекрасном французском языке произнес сеньор дель Кампо, крепко пожимая протянутую ему руку.
— Да, это правда, — ответил де Мартиньи. — Не угодно ли вам присесть... Ваше имя еще составляет для меня тайну, и потому, извините, я не знаю, как называть вас.
— Эту тайну я вам сейчас открою. Я — Мигель дель Кампо, о котором вы, быть может, уже слыхали от моих соотечественников.
— А! Мигель дель Кампо! Еще бы! Это имя мне давно уже знакомо, хотя я и не знал, что оно принадлежит моему корреспонденту... Я с нетерпением ждал вас после вашего письма от двадцатого числа, которое я получил на другой день.
— Я писал, что буду у вас двадцать третьего числа, сегодня как раз двадцать третье, господин де Мартиньи.
— Вы во всем замечательно точны, сеньор дель Кампо.
— Политические часы всегда должны быть тщательно проверены, без чего рискуешь пропустить удобные случаи, представляемые событиями. Я обещал вам быть здесь сегодня и явился; в полночь же двадцать пятого числа я должен быть в Буэнос-Айресе, и буду.
— Ну, так как же, сеньор дель Кампо?
— Сражение проиграно, господин де Мартиньи.
— О, нет!
— Вы сомневаетесь? — с изумлением спросил дон Мигель.
— Официальных подробностей у меня нет, но, судя по частным письмам, оно не проиграно.
— Следовательно, вы думаете, что его выиграл генерал Лаваль?
— Нет. Я думаю только, что произошло бесполезное пролитие крови.
— Ну, вы в этом сильно ошибаетесь, — возразил дон Мигель.
— Не вы ли ошибаетесь, сеньор дель Кампо, основываясь, по всей вероятности, на смутных слухах, циркулирующих в Буэнос-Айресе и в газетах Розаса, которые, вы знаете, все представляют в извращенном виде.
— Вы забываете, господин де Мартиньи, что вот уже целый год, как я сообщаю вам, аргентинской комиссии и здешней печати не только все, что делается в Буэнос-Айресе, но и самые тайные действия, совершаемые в кабинете Розаса. Если бы вы этого не забыли, то не сказали бы, что я основываюсь на смутных слухах и на официальных газетах. Можете быть уверены, что раз я вам говорю: «Сражение проиграно», значит, оно действительно проиграно. Я привез с собой прокламацию генерала Эшагю, полученную от преданных мне людей, находящихся в армии Розаса.
— Вы говорите, эта прокламация с вами? — с видимым беспокойством спросил французский консул.
— Да. Вот она. — С этими словами дон Мигель подал ему отчет о сражении за подписью генерала дона Паскуаля Эшагю и продолжал:
— Из-за всех преувеличений этой реляции ясно видно, что Лаваль проиграл сражение.
— Однако письма...
— Извините, господин де Мартиньи, я приехал из Буэнос-Айреса в Монтевидео не за тем, чтобы спорить о том, в чем я вполне убежден, а лишь с целью обсудить, как и чем помочь беде, — довольно резко произнес дон Мигель.
— Возможно ли еще это вообще? — задумчиво протянул сквозь зубы француз.
— Вполне возможно. У меня уже готов план, при составлении которого я руководствовался одними фактами, — сказал молодой человек.
— Да? Говорите, говорите, пожалуйста! — воскликнул консул.
Ясно и толково дон Мигель изложил тот самый план, один намек на который привел в необузданный восторг его друзей.
Де Мартиньи с напряженным вниманием дослушал его до конца, ни разу не перебив, и затем сказал:
— Мысль ваша превосходна, сеньор дель Кампо. Радуюсь возможности сообщить вам, что генерал Лаваль думает совершенно одинаково с вами относительно необходимости вторжения в Буэнос-Айрес.
— Вот как! — воскликнул молодой человек, не веря своим ушам.
Консул молча подошел к столу, вынул из него папку бумаг, выбрал из них одну и подал своему собеседнику со словами:
— Это выписка из письма генерала Лаваля, сообщенная Каррилем Петиону, командующему французскими войсками в Паране.
— Ну, если генерал Лаваль был такого мнения еще до сражения, то он тем более должен держаться его теперь, — заметил дон Мигель, пробежав глазами содержание бумаги. — А как вы полагаете, трудно будет устроить одновременное вторжение, о котором я вам говорил?
— Нетрудно, а невозможно.
— Но почему же? Что вы в этом находите невозможного, господин де Мартиньи?
— Вы согласитесь с моим мнением, когда узнаете то, что я вам, сейчас сообщу, сеньор дель Кампо. Тайна, которая у вас в руках, была продана. Вы должны знать, что Ривера еще больший враг Лавалю, чем Розас, и он поспешил объявить, что находит план Лаваля изменой делу освобождения. Ведь президенту Ривере выгодно продолжение междоусобной войны и продолжение существования правительства Розаса. Поэтому он не только никогда не согласится на вторжение Лаваля в Буэнос-Айрес, но даже всеми силами будет препятствовать этому.
— Но ведь это сумасшествие! — вскричал дон Мигель.
Консул молча пожал плечами.
— Чистое сумасшествие, — продолжал молодой человек. — Разве Ривера не знает, что он этим ставит на карту существование и свободу Монтевидео вместе с независимостью нашей республики?
— Конечно, знает.
— Ну, и что же?
— Это ему все равно, лишь бы не дать Лавалю возможности добиться успеха. Вы, очевидно, и представить себе не можете, до чего доходит рознь между аргентинцами и некоторыми из ваших эмигрантов, преданными Ривере. Они совсем оплели президента, восстановили его против действительных друзей, пользуются его слабыми сторонами, всячески раздражают, — словом, управляют им для удовлетворения личного честолюбия. Вообще в этой стране общих интересов не существует, каждый действует на свой страх, думая единственно о себе лично, и потому один на другого ни в чем не может положиться. Франции уже надоело вмешиваться в эту грустную неурядицу и она намерена отстраниться. Это видно по полученным мной последним инструкциям. У нее есть заботы поважнее этих, ей нужно подумать об африканской войне.
Дон Мигель сделался еще бледнее, чем был.
— Кто же начальствует в Монтевидео? — спросил он дрожащими от волнения губами.
— Тот же Ривера, сухо ответил консул.
— Но ведь он сейчас находится в действующей армии, и у него должен быть наместник, который распоряжается вместо него?
— Наместник есть, но он делает только то, что приказывает ему Ривера.
— Ну, а собрание?
— Собрания нет.
— Так, наконец, народ?
— И народа нет, в том смысле, конечно, что в Америке народ еще не имеет права совещательного голоса. Есть только один Ривера, который и орудует. Положим, около него имеется несколько честных, даровитых людей, как, например, Васкес, Муиос и другие, но их влияние парализуется теми, кто ненавидит их.
Дон Мигель в полном унынии опустил голову. Все его планы разрушены, все светлые надежды обмануты и все усилия и жертвы не привели ни к чему!
Однако, не в его характере было долго отчаиваться. Он овладел собой, поднял голову и спокойно проговорил:
— Пусть так, господин де Мартиньи. Я всегда готов считаться со свершившимися фактами и действовать сообразно с ними. Вы говорите, что Ривера не желает идти с Лавалем, а поэтому невозможно устроить их совместного движения на Буэнос-Айрес. Ведь так?
— Совершенно верно, — ответил француз.
— В таком случае нужно попытаться убедить Лаваля, чтобы он шел один на Буэнос-Айрес и напал на город с наименее защищенной стороны. Пусть он немедленно идет туда, не смущаясь встречами со слабыми отрядами Розаса. Пусть посмелее атакует город. Я ручаюсь, что все население станет на его сторону, благодаря именно смелости его предприятия. Я обязался бы с сотней моих друзей проложить ему путь, овладеть арсеналом, крепостью, вообще каким бы то ни было пунктом, который Лаваль указал бы мне.
— Вы человек мужественный, сеньор дель Кампо, — с чувством сказал де Мартиньи, пожимая ему руку, — но вы знаете, что мое официальное положение вынуждает меня быть крайне осторожным в подобные критические минуты. Я могу только частным образом высказать свое личное мнение генералу Лавалю. Впрочем, я постараюсь еще переговорить с некоторыми членами аргентинской комиссии. 'Гак как я теперь имею основание думать, что сражение проиграно, и что генерал Лаваль решится, наконец, на вторжение в Буэнос-Айрес, то я готов всеми силами поддерживать ваше мнение о необходимости неотлагательного и быстрого действия.
— Да, овладеть Буэнос-Айресом, значит овладеть всем, потому что там Розас, его власть и сила. В Буэнос-Айресе заключена вся судьба Аргентинской республики. Как только он будет вырван из рук Розаса, республика сделается свободной. Исполните свое обещание, и мое отечество вечно будет обязано вам, как человеку, способствовавшему его освобождению. Теперь позвольте мне проститься с вами, уважаемый господин де Мартиньи, — заключил дон Мигель, встав со своего места. — Я возвращаюсь в Буэнос-Айрес с надеждой на вас. Может быть, мы еще и увидимся, если не здесь, на земле, то там... на небе. Первое может случиться тогда, когда моя несчастная родина благополучно вынесет свой теперешний страшный кризис, а второе — если она погибнет.
— Нет, — возразил консул, провожая его в переднюю,— вы должны дать мне слово повидаться со мной еще на земле, свидание на небе — дело несколько сомнительное: там, пожалуй, мы и не найдем друг друга, — пошутил он.
— Слова дать не могу, все будет зависеть от обстоятельств, — ответил дон Мигель. — Прощайте, господин де Мартиньи. Примите мою благодарность за обещанное вами содействие. С этого дня наша переписка будет чаще, подробнее и откровеннее прежнего.
— Да, пожалуйста, пишите каждый день, если возможно.
— Буду пользоваться всеми удобными случаями... Да, кстати, я попрошу вас об одной услуге.
— Говорите, говорите, что вам угодно. Я весь в вашем распоряжении, — с живостью произнес француз.
— Пришлите мне, пожалуйста, завтра рекомендательное письмо к дону Сантьяго Васкесу.
— С удовольствием. Где вы остановились?
— В гостинице Пара. Я там еще не был сам, но поручил человеку, с которым приехал, занять в этой гостинице для меня номер. Кроме того, я попрошу вас приказать вашему слуге проводить меня туда, я сам не знаю дороги.
— Сию минуту.
— Не найдете ли возможным предупредить сеньора Васкеса, что я буду у него завтра вечером в восемь часов?
— Хорошо, Я увижусь с ним лично и скажу ему,
— Прощайте, прощайте! — еще раз сказал дон Мигель. — Мне кажется, я никогда не увижу больше ни Монтевидео, ни вас...
— Оставьте вы эти мрачные мысли, мой друг, — перебил де Мартиньи. — Вы так молоды, вам предстоит еще долгая жизнь.
— Да, мне всего двадцать семь лет. Но разве молодость гарантирована от смерти, в особенности в смутные эпохи?
Они пожали друг другу руки, и дон Мигель вышел из дома в сопровождении слуги консула.
На следующий день, в одиннадцать часов вечера, дель Кампо, после продолжительного свидания с доном Сантьяго Васкесом, сел в ту же китоловку, которая привезла его накануне в Монтевидео.
Молодой человек возвращался в Буэнос-Айрес с разбитыми надеждами и новым запасом разочарований. Тем не менее, он решился продолжать борьбу против угнетателей своего отечества, несмотря на то, что почти утратил веру в успех.
Ветер во все время плавания был попутный. Судно летело по волнам с быстротой птицы. Ровно в полночь дон Мигель высадился в Буэнос-Айресе в укромном месте и, никем не замеченный, направился по темным и пустынным улицам к своему дому.
ДОННА МАРИЯ ЖОЗЕФА ЭСКУРРА
Свояченица его превосходительства реставрадора давала аудиенцию в своей спальне. В смежной зале, пол которой был покрыт прекрасным плетеным ковром с белыми и черными полосами, по обыкновению, теснилась толпа, один вид которой приводил в содрогание мало-мальски щепетильных людей.
Старая мулатка играла роль адъютанта и церемониймейстера. Охраняя дверь в спальню, она без всякого стеснения брала деньги, которые ей давали желающие попасть в святилище донны Марии Жозефы первыми, без соблюдения очереди. Просьбы, мольбы и слезы не трогали мулатку, казавшуюся каменной, только деньги действовали на нее. Толпа была самая разношерстная. Тут были негры, мулаты, индейцы, белые, были люди богатые и бедные, высших классов и низших, честные и негодяи, все сошлись здесь в чаянии каких-нибудь благ и милостей.
Но вот из спальни вышла молодая, лет восемнадцати, негритянка с надменным видом, должно быть, из богатых. Пропустив ее мимо себя, мулатка дала знак белому, неподвижно стоявшему у окна и вертевшему в руках фуражку. Он не спеша протиснулся через толпу, обменялся несколькими словами с охранительницей двери и вошел в спальню.
Донна Мария Жозефа сидела на низеньком диванчике и пила мате с молоком.
— Садись, — сказала она вошедшему. Тот с неуклюжим поклоном сел на край стула.
— Ты какой пьешь мате, сладкий или горький? — продолжала она.
— Как будет угодно вашему превосходительству, — ответил незнакомец, смущенно ухмыляясь.
— Не называй меня превосходительством, зови как хочешь, только не так. Прошли те дикие времена, когда царствовали гнусные унитарии и когда бедный человек вынужден был всячески величать других за то только, что на тех были надеты дорогие платья. Теперь мы все равны, благодаря мудрым законам федерации... Ты служишь, товарищ?
— Нет, сеньора. Вот уже пять лет, как генерал Пинедо уволил меня по болезни. После выздоровления я поступил в кучеры.
— Ты был солдатом у Пинедо?
— Да, сеньора. Я был ранен в сражении и мне за это дали отставку.
— Теперь мой зять, дон Хуан Мануэль, призывает на службу всех желающих.
— Я слышал об этом, сеньора.
— Ходят слухи, что Лаваль хочет напасть на нас. Детям федерации следует защищать свою мать. Впереди всех, конечно, будет Хуан Мануэль, как отец федерации. Но отечеству можно служить не с одним оружием в руках и не только на поле сражения. Поэтому было бы несправедливо заставлять переносить трудности и подвергать опасностям войны людей, способных служить другим способом.
— Само собой разумеется, сеньора! Как уж тут справедливость...
— Вот и я тоже говорю, товарищ... Видишь ли, вон у меня список более пятидесяти человек, которым я дала увольнительные билеты от полевой службы, в уважение их услуг. Надо тебе знать, товарищ, что настоящие слуги отечества — те, которые открывают гнусные происки и преступные замыслы дикарей-унитариев, живущих в нашем городе. Здесь сидят самые отчаянные из них. Тебе известно об этом?
— Слышал кое-что, сеньора, — с поклоном ответил бывший солдат, отдавая прислуживавшей негритянке опорожненную им чашку.
— Ну, да, кто же не слыхал об этих мерзких чудовищах, благодаря которым никто не может чувствовать себя ни минуты спокойным и вечно должен быть настороже. Хуан Мануэль желает, чтобы все добрые федералисты могли спокойно жить и работать в своей семье, но эти проклятые унитарии мешают... Как ты думаешь, ведь это выходит очень скверно, а?
— На что уж сквернее, сеньора! Человек хочет покоя, а его тормошат: иди из-за них на ножи да под пули!
— Вот то-то и есть, товарищ! Ну, а как по твоему: ведь в настоящей федерации богатые и бедные должны быть совершенно равны? Да?
— Конечно, сеньора. Как перед Богом все равны, так и в федерации не полагается богатому ломаться над бедным, потому что мы все, с позволения сказать вашей милости, из одной глины сделаны.
— Вот, видишь, как ты умно рассуждаешь! Ну, а унитарии говорят, что если кто богат, то ему и черт не брат, а бедный вовсе не человек. В федерации таких гордецов не должно быть. Поэтому все те добрые федералы, которые помогут вывести этих гнусных дикарей, спасут и отечество, и себя, кроме того, им всегда будут открыты двери Хуана Мануэля и мои и ни в какой просьбе не будет отказано. Хуан Мануэль все готов сделать для тех, которые служат отечеству, то есть федерации. Слышишь, товарищ?
— Как не слыхать, сеньора, слышу! Я истинный федерал и за отечество себя не пожалею.
— Знаю, и Хуан Мануэль тоже это знает. Поэтому я и позвала тебя. Я уверена, что ты не скроешь от нас правды и расскажешь все, что увидишь или услышишь от унитариев.
— Где же мне, сеньора, увидать или услыхать что-нибудь от них, когда я живу между федералами?
— Ты человек честный, а потому тебя, может быть, обманывают, и те люди, среди которых ты живешь, вовсе не федералы... Скажи мне, у кого ты служишь?
— Сейчас я служу кучером у англичанина.
— Знаю. А где ты прежде служил?
— В Барракасе, у одной вдовы.
— У донны Гермозы, не так ли?
— Так точно, сеньора.
— О, нам здесь все известно, и горе тому, кто захочет солгать Хуану Мануэлю или мне! — вскричала Мария Жозефа, сверкая злыми глазами на оторопевшего кучера, который никак не мог понять, чего от него хотят.
— Само собой разумеется,— на удачу ответил он.
— Запомни это, товарищ! Когда ты поступил к донне Гермозе?
— В ноябре прошлого года.
— А когда ушел?
— В мае нынешнего года, сеньора.
— В мае, говоришь?
— Так точно.
— А какого числа, не помнишь?
— Пятого, сеньора.
— Почему ты ушел?
— Сеньора сказала мне, что хочет сократить расходы по дому и для этого должна уволить несколько лишних человек: повара, мальчика для побегушек и меня. Она дала нам каждому по золотой унции и сказала, что, может быть, после опять возьмет нас к себе, и чтобы мы не боялись обращаться к ней, если будем в нужде.
— Какая странная госпожа! Хочет сократить свои расходы и раздает золото унциями! — с едкой иронией воскликнула Мария Жозефа.
— Да, сеньора, донна Гермоза, действительно самая добрая госпожа, какую мне только случалось видеть до сих пор, — простодушно сказал кучер.
Занятая своими соображениями, старуха не слыхала этих слов. После некоторого молчания она продолжала:
— Скажи мне, товарищ, не помнишь ты, в котором часу донна Гермоза уволила вас?
— В семь или восемь утра.
— Она всегда встает так рано?
— Нет, сеньора, обыкновенно она встает позднее.
— Позднее?
— Да, сеньора.
— А не заметил ты чего-нибудь необыкновенного в тот день у нее в доме?
— Нет, сеньора, ничего не заметил.
— Не видал кого-нибудь у нее ночью?
— Не видал.
— Каких слуг она оставила при себе?
— Хосе.
— Кто это?
— Старый солдат, который служил под начальством ее отца и нянчил ее.
— Ага! А еще кого она оставила у себя?
— Двух старых негров и служанку, Лизу, совсем еще молоденькую.
— Хорошо. До сих пор ты говорил мне правду. Теперь я спрошу тебя о деле, которое очень важно для Хуана Мануэля и для федерации. Слышишь?
— Я всегда говорю правду, сеньора, — ответил допрашиваемый, невольно ежась под влиянием острого взгляда старухи.
— Увидим... Кто из мужчин бывал у донны Гермозы во время твоей пятимесячной службы в ее доме?
— Никто, сеньора.
— Как так никто?
— Так, сеньора. Пока я у нее служил, у нас никаких мужчин не бывало.
— Может быть, по вечерам, когда ты уходил из дому?
— Я вечером всегда бывал дома, сеньора, потому что часто приходилось возить донну Гермозу в Боку. Там она выходила гулять по берегу, в особенности, когда светила луна.
— Так она любит прогуливаться по вечерам?
— Так точно.
— Одна?
— Нет, с горничной Лизой, которую она очень любит.
— Любит?
— Так точно, сеньора, как родную любит.
— Может быть, она ей и в самом деле родня?
— Нет, чужая, но донна Гермоза привезла ее с собой из Тукумана.
— А я слышала со стороны, будто это ее дочь?
— Господи Иисусе, как же это может быть! Донна Гермоза сама совсем еще молоденькая, а той девочке уже тринадцатый год.
— Молоденькая? Сколько же ей лет?
— Двадцать два или двадцать три года.
— Да, если выключить то время, которое она провела на руках у кормилицы, да то, которое проползала па четвереньках, она сама окажется девчонкой! Так она гуляла при тебе только со своей Лизой?
— Только с ней, сеньора.
— Странно! И ни с кем не встречалась во время своих прогулок при луне?
— Ни с кем, сеньора.
— Удивительная вещь! Что же она делала? Не четки же свои она там перебирала?
— Не могу знать, — с оттенком некоторой досады ответил кучер.
Он был искренне предан донне Гермозе и начал подозревать, что Мария Жозефа выспрашивает его не с доброй целью, поэтому решил быть осторожнее.
Старуха помолчала. Очевидно, она была сильно разочарована и раздосадована.
— Что же, эта вдовушка и днем не принимала никого? — продолжала она.
— Изредка к ней приезжали дамы.
— Дамы! Я спрашиваю о мужчинах, а не о дамах. Дамы — статья неинтересная для молодой вдовушки.
— Иногда бывал дон Мигель, ее двоюродный брат.
— Часто?
— Раза два в неделю, не больше.
— Бывал ты у нее, с тех пор, как она тебя уволила?
— Был три раза, сеньора.
— Кого же ты видел у нее?
— Никого не видал.
— Никого?
— Точно так, сеньора, ровнехонько никого.
— Не было ли у нее в доме больного?
— Нет, прислуга ее вся была здорова, а больше у нее никто в доме не живет.
— Хорошо. Хуан Мануэль желал иметь некоторые сведения об этой даме. Я повторю ему все, что ты сказал, и если окажется, что ты не соврал, то тебе будет награда, если же, Боже избави, ты наврал или скрыл что-нибудь, то тогда и тебе не сдобровать, и твоей донне Гермозе достанется. Ты знаешь, как мой зять наказывает дурных слуг федерации?
— Я, сеньора, добрый федерал и всегда готов служить верой и правдой федерации.
— Хорошо, хорошо. Можешь идти.
Как только кучер вышел, донна Мария Жозефа позвала мулатку, стоявшую у дверей, и спросила:
— Девушка, которая приходила вчера из Барракаса, здесь?
— Здесь, сеньора, — ответила мулатка.
— Пусть она войдет.
Через минуту в спальню явилась негритянка лет двадцати, оборванная и грязная.
Старуха пытливо заглянула ей в лицо и потом сердито крикнула:
— Ты мне соврала: в доме сеньоры, на которую ты вчера донесла, не живет никакого мужчины и не было никакого больного.
— Клянусь вашей милости, что я сказала правду, — визгливым голосом заговорила негритянка. — Я служу в мелочной лавочке, напротив дома этой унитарийки, и каждое утро вижу у нее в саду мужчину, который никогда не носит федерального значка. Днем донна Гермоза гуляет с ним там под руку, а вечером они вдвоем пьют кофе под большой ивой, посредине сада.
— Откуда ты это видишь?
— Из кухни лавочки. Окно выходит прямо в сад унитарийки, и я часто подглядываю за пей из-за деревянной шторы, так что меня не видно. Я очень зла на этих унитариев, потому и подсматриваю за ними, как только у меня есть свободное время.
— Почему же ты зла на них?
— Да потому, что они унитарии, я их терпеть не могу.
— А откуда ты взяла, что это унитарии?
— Это сразу видно, сеньора! Когда донна Гермоза проходит мимо нашей лавки, она никогда не кланяется ни мне, ни хозяйке, ни хозяину. Потом ее слуги ничего не покупают у нас, хотя знают, что мы добрые федералы. Кроме того, донна Гермоза часто носит светло-голубое платье, когда этот цвет запрещено не только носить, но и иметь у себя в доме. Из всего этого видно, что она унитарийка... Недаром, знать, нынешнюю ночь, ординарец дона Маринио и два солдата караулили ее дом и справлялись о ней утром у нас.
— Что ты еще знаешь об этой донне, из чего можно понять, что она действительно унитарийка?
— Да вот хоть взять это. Моя тетка узнала, что она ищет прачку, и пошла к ней сказать, что отлично моет белье, а донна Гермоза ей отказала и отдала белье какой-то еретичке.
— А как зовут эту еретичку?
— Не знаю. Но если вашей милости угодно, я узнаю.
— Да, узнай и доложи мне.
— Потом я скажу вам вот еще что. Я слышала, как эти унитарии по ночам играют на фортепьянах и поют.
— Что же в этом дурного?
— Разумеется, ничего, да сама донна-то, кажется, поет песни Лаваля.
— Почему ты это думаешь?
— Мне так кажется, сеньора.
— Не можешь ли ты ночью подойти поближе к ее дому и хорошенько послушать, что она поет?
— Постараюсь, сеньора.
— А еще бы лучше, если бы ты ухитрилась забраться к ней с вечера в дом, спрятаться там и пробыть всю ночь.
— Зачем, сеньора?
— Да ведь ты говорила мне о молодом человеке, который...
— Ах, да, понимаю! Он живет у нее во флигеле и, должно быть, приходит к ней в дом очень рано...
— Нет, наверное, очень поздно и уходит до рассвета.
— Хорошо, сеньора, я постараюсь это устроить и узнать всю подноготную.
— Да, постарайся. Что ты еще можешь сообщить мне об этом доме?
— Я вчера доложила вашей милости все, что заметила. К донне Гермозе почти каждый день приезжает какой-то молодой человек, который будто бы ее двоюродный брат. А прошлый месяц очень часто бывал доктор, почему я и подумала, что в доме должен быть больной.
— Кто же, по-твоему, был болен?
— Наверное, тот самый молодой человек, который живет во флигеле. Он очень хромал вначале.
— Когда ты в первый раз заметила его?
— Месяца два тому назад, сеньора. Теперь он больше не хромает, и доктор перестал ездить. Они гуляют иногда по целым часам.
— Кто?
— Да эта донна Гермоза с молодым человеком.
— Где гуляют?
— Все по саду... Просто не надышатся друг на друга! Так и льнут друг к другу.
— Ну, ты гляди за ними в оба и докладывай мне все, что увидишь и услышишь. Этим ты поможешь всем бедным, которых мучат эти проклятые унитарии. Их надо ловить и уничтожать, чтобы они не могли делать зла бедным людям, белым или черным — все равно, потому что в федерации все одинаковы. Понимаешь?
— Понимаю, сеньора. В федерации не полагается какой-нибудь белой и богатой донне задирать нос перед черной и бедной сеньорой, в роде хотя бы меня. Я потому и служу федерации, что она всех равняет. Унитариев я ненавижу и всех бы их готова задушить собственными руками.
— Этого пока не надо. Ты только следи за ними да и пересказывай мне все, что они делают. Ну, ступай пока.
Негритянка ушла, довольная, что оказала услугу святому делу федерации и беседовала так долго со свояченицей его превосходительства...
Европейские сторонники диктатора говорили, что если бы Розас был тираном, если бы его правительство действительно было таково, каким выставляли его враги, то народ так долго не поддерживал бы его, и он на первых жe порах был бы убит или свергнут. Но эти сторонники не знали, что Розас держался единственно благодаря организованной им с помощью его жены и родственниц доносов, благодаря ослаблению всех общественных связей, деморализации масс, уничтожению сословных привилегий и разъединения граждан.
Наконец, все шпионы удалились, сделав свое дело, и донна Мария Жозефа хотела было отправиться с докладом к своему зятю, когда мулатка объявила ей, что приехал сеньор Маринио.
Старуха сама вышла к нему навстречу.
— Для вас отложу свой визит к Хуану Мануэлю, — сказала она, вводя его в свой кабинет, рядом со спальней, но с отдельным входом. — Я сегодня просто взбешена!
— И я тоже взбешен, — отозвался Маринио, опускаясь возле нее на диван.
— Но, вероятно, по другим причинам, нежели я?
— Думаю, что так. Скажите мне сначала, что бесит вас, а потом и я открою вам свою досаду.
— Вы, сеньор, злите меня.
— Я?!
— Да, вы.
— Чем же это, сеньора?
— Тем, что плохо служите нам.
— Кому это «вам», сеньора?
— Странный вопрос! Хуану Мануэлю, мне, делу, — словом, всем!
— Вот как!
— Да, и этим вы можете вызвать недовольство Хуана Мануэля.
— Едва ли. Мы с его превосходительством действуем заодно.
— Вы видите его каждую ночь и...
— А вы, сеньора, видите его три или четыре раза в день.
— Только три раза.
— И то большое счастье... Но почему вы находите, что я плохо служу вам?
— Потому что вы в своей «Газете» проповедуете поход только против унитариев, совершенно оставляя в стороне унитариек, а они между тем гораздо опаснее.
— Надо начинать с мужчин, сеньора, а уже потом...
— Надо было начать и кончить всеми одновременно — и мужчинами и женщинами... Даже лучше бы было начать прямо с женщин, потому что в них-то именно и сидит корень зла. Я бы даже охотно перебила всех их гнусных детей, как предлагал недавно образцовый федерал, мировой судья в Монсеррат, дон Мануэль Казаль Гаэте.
— Доберемся и до них, сеньора, всему свое время, ни унитарийки, ни их отпрыски не уйдут от нас. Но вот, что я вам хотел сказать, сеньора: я заметил, что некоторые федералки могли бы поусерднее относиться к своему делу.
— Что касается меня, то я, кажется...
— Я именно на вас и намекаю, сеньора.
— На меня! Вы шутите?
— Нисколько! Я говорю совершенно серьезно. Две недели тому назад я вам вверил одну тайну. Помните?
— Насчет Барракаса?
— Да, именно насчет приключения в той местности, а вы взяли да все и пересказали моей жене.
— Это я только в виде шутки. Я хотела...
— Из-за вашей шутки жена угрожает выцарапать мне глаза, сеньора!
— Ха-ха-ха... Вздор!
— Нет, не вздор, а дело это очень серьезное.
— Глупости!
— Повторяю, что это дело очень серьезное для меня.
— Оставьте, пожалуйста.
— Я не могу оставить то, что так сильно задевает меня. Вам не было никакой надобности науськивать на меня мою жену и делать мне неприятности.
— Науськивать! Что за выражение! Я только намекнула вашей жене, что барракасская вдовушка-затворница обратила на себя ваше внимание — вот и все. Это она могла услыхать и от других, потому что весь город говорит о том, что вы на балу не спускали с нее глаз, а потом полетели догонять ее верхом, когда она уехала. Ссорить вас с женой я вовсе не думала.
— Однако вы это сделали...
— Но я сделала и кое-что хорошее для вас.
— Именно?
— Узнала то, что вы так желали знать.
— А! Это интересно...
— Очень даже, не только для вас, но и для меня. Вы хотели знать, какую жизнь ведет одна вдовушка, кто у нее бывает и что означает ее удивительное затворничество?
— Да, я интересуюсь всем этим с политической точки зрения, ради нашего общего дела.
— Будто бы?
— Разумеется, так. А то с какой же еще целью?
— Ха-ха-ха! Ох, Господи!
— Чему вы смеетесь, сеньора?
— Очень уж смешно, вот и смеюсь.
— Ну, я понимаю, в чем дело, сеньора.
— И я тоже, сеньор.
— Вот какие мы с вами проницательные, никак не можем обмануть друг друга!
— Ха-ха-ха... да. Ну, а дальше что скажете, сеньор Маринио?
— Дальше? Дальше я хотел бы знать, что именно вы узнали.
— Между прочим, я узнала, что мое подозрение о том, что эта затворница — унитарийка, вполне подтвердилось.
— Ну, это едва ли!
— Уверяю вас, что она самая закоренелая унитарийка.
— Ну, пусть так. А дальше что вы узнали?
— Вы намекнули мне, что у нее в доме кто-то скрывается.
— Да, в виде предположения.
— Нет, вы не предполагали, а знали.
— Допустим и это. Дальше что, сеньора?
— Против ее дома есть лавка, в которой служит одна негритянка. К этой негритянке я послала сказать, чтобы она постаралась разведать, что делается у донны Гермозы, и сообщить мне. Негритянка приходила ко мне вчера и сегодня.
— Ну, и что же?
— Какой вы нетерпеливый, дон Маринио!
— Не более вас, сеньора, когда дело касается политических интересов.
— На этот раз ваши «политические интересы» очень сомнительного свойства, дон Маринио.
— Продолжайте, ради Бога, сеньора! Что же сообщила вам негритянка?
— Сочувствую вашему «политическому» нетерпению, — улыбнулась сеньора Эскурра и продолжила:
— Между прочим, негритянка сообщила мне, что у донны Гермозы, действительно, укрывается один прекрасный молодой человек.
— Да?
— Да. Днем они гуляют под руку по саду, по вечерам пьют там же кофе, а ночь проводит он у нее в…
— Что такое?! Где он проводит ночь? — вскричал Маринио, весь красный и с горящими глазами.
— У нее в доме.
— Ну, да, раз он живет там...
— Он живет во флигеле, но как только наступает ночь...
— И тогда?
— Тогда ничего более не видно, — спокойно заключила донна Мария Жозефа, насмешливо взглянув на своего собеседника.
— А! Ну, что у нее живет мужчина, я это давно уже знал. Откровенно сознаюсь теперь в этом.
— А кто этот мужчина?
— Пока еще не знаю.
— Ну, и я тоже. Я только подозреваю, кто это, — с таинственным видом сказала старуха.
— Кто же именно? — поспешно спросил Маринио.
— Не скажу, пока не узнаю точно.
— Положим, мне гораздо интереснее узнать, в каких отношениях находится этот молодой человек с донной Гермозой, нежели знать кто он. Надеюсь, что вы по дружбе ко мне постараетесь узнать именно об этом. Сделать это мне самому довольно трудно. Я уже пытался, но ровно ничего не добился. Дом этой вдовушки похож на монастырь; снаружи в нем не заметно ни малейшего движения: двери всегда заперты, окна занавешены, слуги кажутся немыми, посетителей почти не бывает. В последние три недели раза три приезжала Аврора Барро; только Мигель дель Кампо, двоюродный брат вдовушки, бывает почти каждый день, да донна Августина была раза четыре и...
— И по ночам вокруг дома стоят часовые сеньора Маринио, — добавила Мария Жозефа.
— Откуда вы это знаете? — с удивлением спросил гость.
— Мало ли что я знаю... Отчего вы не подружитесь с Мигелем дель Кампо? Он, кажется, хороший федерал.
— Да, в этом не может быть никакого сомнения, но он очень горд, а это мне не нравится.
— Так попросили бы Августину представить вас донне Гермозе и ввести к ней в дом.
— Я не хочу вмешивать в это дело, имеющее исключительно политический характер, других, кроме вас, сеньора.
— Будет вам, плут этакий сваливать все на политику! Не будь эта вдовушка такая хорошенькая, как говорят, вы, наверное...
— Клянусь вам, сеньора.
— Не клянитесь, пожалуйста... знаю я вас. Для нее большая честь, что такой видный человек, как вы, обратил на нее внимание.
— Сеньора!..
— Да и чего вы стесняетесь? Дело это очень обыкновенное и понятное... А что вы скажете мне, если я заставлю эту вдовушку придти ко мне в качестве просительницы, а потом пришлю ее к вам в типографию или в известный маленький домик?
— Вы это серьезно говорите? — воскликнул Маринио с просиявшим лицом, подвинувшись ближе к старухе и взяв ее за руку.
— Ах, шельмец, как обрадовался! Успокойтесь, я вовсе не шучу, это не трудно устроить, в особенности, если мои подозрения оправдаются. Вам придется только подождать, так, дня три или четыре. Друг мой, — вкрадчиво сказал Маринио, целуя сморщенную и неопрятную руку старухи, — я только того и желаю, чтобы вы заполучили к себе эту даму и потом направили ее ко мне. При вашем могуществе и удивительном уме вам это легко сделать. За такую услугу я сделал бы все, что хотите.
— Приложу все свое старание, чтобы доставить вам это удовольствие, тем более, что в этом деле замешан мой личный интерес. В случае успеха, я так утру нос Викторике, как он и не ожидает!
— Значит, вы в самом деле думаете, что в доме барракасской вдовушки скрывается что-нибудь очень важное?
— Подозреваю. Во всяком случае ваши желания будут исполнены. А чем мы отплатите мне за мою услугу?
— Хотите, я вам завтра же пришлю сто экземпляров моей газеты для раздачи вашим добрым слугам?
— Пожалуй, если там будет что-нибудь подходящее, способное привести всех в ужас и трепет.
— Не беспокойтесь: там в самых мрачных красках будут описаны последствия измены правительству и федерации.
— Пришлите, но...
— Кроме того, я поблагодарю вас еще кое-чем. Только, пожалуйста, ничего не говорите моей жене.
— Да ведь я только пошутила.
— Ну, а я умоляю вас избегать с ней подобных шуток, если не хотите совсем обидеть меня.
— Хорошо, хорошо, не буду... Итак, вдовушка будет вашей, но только с условием...
— Ах, Господи, еще условие! Какое же, сеньора?
— Сначала дайте слово, что вы исполните его.
— Даю, если только это будет в моих силах.
— Я невозможного ничего не потребую. Если я найду того, кого не мог найти Викторика, и пришлю к вам в казармы, примете вы его?
— Кого, вдовушку?
— У вас только одна вдовушка и на уме!
— Так кого же вы хотите прислать в казармы?
— Того, кого я ищу и надеюсь найти. Поняли?
— Ах, да! Понял, понял.
— Я думаю, мне не за чем говорить вам, что мы с вами только тогда можем быть полезны друг другу, когда наша дружеская связь не прекратится, — с многозначительным взглядом добавила сеньора Эскурра.
— Я этого никогда не забываю, сеньора, — ответил Маринио, вставая.
— Тем лучше... Вы уже уходите?
— Да, мне пора. Когда прикажете явиться к вам?
— Дня через четыре.
— Хорошо. До свидания, сеньора.
— До свидания, мой друг. Кланяйтесь своей жене и не обращайте внимания на ее капризы.
— Вам хорошо это советовать, сеньора, а попробовали бы вы побыть на моем месте! Ну, однако, прощайте.
Поцеловав еще раз у Марии Жозефы руку, Маринио поспешно удалился.