Книга: Когда я умру. Уроки, вынесенные с Территории Смерти
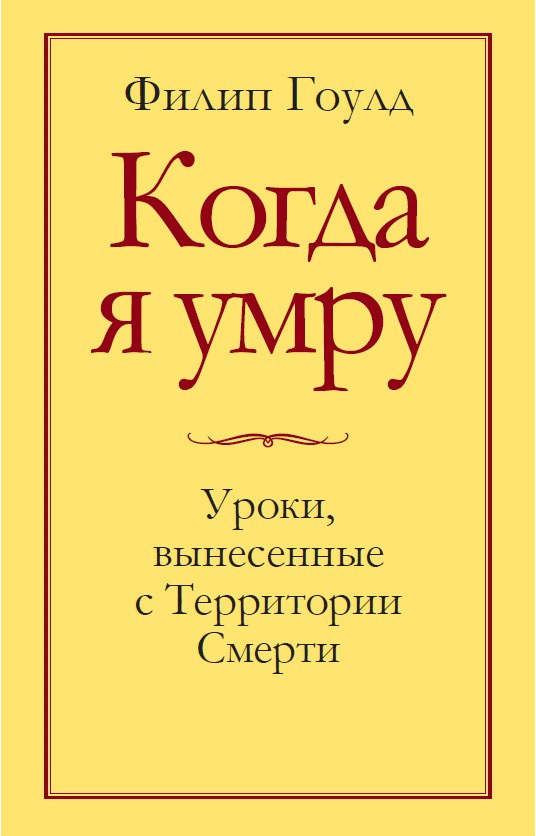
Когда я умру. Уроки, вынесенные с Территории Смерти
Русское издание книги посвящено памяти Юрия Николаевича Стабникова, мужественно боровшегося с раком до последнего дыхания, как и многие другие жертвы этой страшной болезни.
Мы благодарим врачей и сотрудников Первого московского хосписа, лично Главного уролога России д.м.н. Дмитрия Юрьевича Пушкаря, а также всех специалистов, медсестер, санитарок, сотрудников «Скорой помощи», которые, не жалея сил, с душевной теплотой помогают людям, страдающим этим тяжелейшим недугом.
Посвящается персоналу больниц Royal Marsden Hospital, Лондон, и Royal Victoria Infirmary, Ньюкасл.
Впервые я встретился с Филипом Гоулдом 15 июня 2011 года. Мы с Джеймсом Хардингом, редактором «The Times», приехали к нему домой – он жил неподалеку от Риджентс-парка. Мы ожидали увидеть человека на пороге смерти, но перед нами был полный жизни мужчина. Еще бы! В этот самый день ему подарили надежду прожить еще полтора года. Он был весел и общителен, предвкушал поездку по Италии в обществе жены Гейл Ребак.
Мы пришли к нему как к автору пространного и по дробного описания всех перипетий лечения рака пищевода. (Это описание составляет первые главы настоящей книги.) Филип был уверен, что его текст заслуживает того, чтобы с ним ознакомилась как можно более широкая аудитория. По объему он составлял более двадцати тысяч слов, а нам, газетчикам, трудно иметь дело с такими статьями. Чересчур длинная для того, чтобы разбить ее на части и подать в нескольких номерах, она в то же время была слишком короткой для публикации отдельной книгой. При этом автор настаивал, чтобы его текст увидел свет именно в газете «The Times». Материал производил такое глубокое впечатление, что Джеймс решил печатать его целиком, не пожертвовав ни единым словом, и выделять под него по четыре газетные полосы каждый день в течение недели.
Мы договорились снабжать каждую публикацию интригующей концовкой, чтобы читатели с нетерпением ждали продолжения. Филипу понравилась идея сделать из его рассказа триллер. Решено было пустить весь цикл под единым названием «Unfinished Life» («Жизнь без конца»), намекнув таким образом на политологический трактат Филипа «Unfinished Revolution» («Революция без конца»).
Филип активно помогал нам дробить текст на самостоятельные куски, засыпал нас электронными письмами, требовал, чтобы ему давали на вычитку корректуру и подписи под иллюстрациями. Кроме того, вместе с Гейл они дали трогательное интервью Дженис Тернер, обозревателю «The Times Magazine».
Когда эта серия статей увидела свет, читатели «The Times» встретили ее с искренней доброжелательностью, в которой невозможно было усомниться. Отдел писем просто утонул в потоке читательских отзывов.
Через пару недель Филип отправился в поездку по Италии, где намеревался дописать еще страниц двадцать к новому изданию книги «Революция без конца». На поверку там оказалось не двадцать, а все сто сорок страниц, которые и вошли в последнее издание.
Мы решили опубликовать новую часть такими же выпусками, как это делали прежде, и приступили к подготовке проекта, интенсивно обмениваясь электронными письмами. В сентябре корректура была готова, но к тому моменту мы уже знали, что болезнь вернулась к Филипу с новой силой.
Это ничуть не ослабило энтузиазма, с которым он относился к нашему общему делу. Он снова стремился участвовать в проекте на всех его этапах, спорил со мной о заголовках, придирался к каждому слову, желая, чтобы его мысли дошли до читателя во всей их полноте. Попутно он продолжал обсуждать планы чего-то большего, только начавшегося с изданием «Жизни без конца». Он хотел не просто написать историю своей болезни – впереди его ждали новые этапы лечения и крепнущая уверенность в неминуемой смерти.
На этих страницах он рассказывает, как сначала не видел никакого смысла в том, чтобы убедиться в своей обреченности. Это ведь ужасный момент для человека, который всю свою жизнь построил на подчинении каким-то целям, на формировании стратегий, ведущих к решению конкретных задач. И вот перед ним встала новая цель – писать и говорить о лицезрении смерти на таком уровне и с такой глубиной, которые не только облегчили бы муки сострадания его близким, но и оказались бы полезны множеству посторонних людей.
Когда Филип и его давний друг Аластер Кемпбелл[1] затевали очередную политическую кампанию, они любили говорить: «Стратегия, не изложенная на бумаге, всего лишь пустые слова». Новая стратегия Филипа состояла в том, чтобы научиться смотреть в глаза неминуемой смерти. И эту новую стратегию требовалось зафиксировать в словах. Разумеется, наша газета тоже хотела бы больше узнать об этой стороне жизни, и вот мы снова стали активно обмениваться электронными письмами, только на этот раз уже я проявил инициативу.
Впрочем, теперь сама болезнь и перипетии ее лечения были уже не столь актуальны. Филип ступил на Территорию Смерти, как он сам ее определял, и хотя он не прекращал писать, слова у него рождались не так бойко, как раньше.
В это время он дал несколько замечательных интервью. В одном из них, от 18 сентября, беседуя с Эндрю Марром с радиостанции ВВС, он откровенно говорил о своей болезни и ее почти гарантированном исходе. Он говорил о том, что чувствуешь, пребывая на Территории Смерти, и его спокойное мужество перед лицом неотвратимого никого не оставило равнодушным.
Двумя днями позже появилось еще одно интервью – Саймону Хаттенстоуну из «Guardian». И снова Филипп искренне рассказывал о своей болезни, подчеркнув, что он смирился с неизбежностью смерти и готов ее принять.
Прямота этих высказываний привела семью Филипа в замешательство, поскольку оба интервью организовывались всего лишь для продвижения нового издания книги «Революция без конца» и вовсе не имели целью обсуждение его здоровья. Теперь всем стало ясно, что Филип полон решимости открыто высказаться об опыте умирания.
Его силы были подорваны и лечением, и самим ходом болезни, однако Филип продолжал писать. Конечно, теперь у него не хватало сил на шлифовку стиля, но его слова дышали той же страстью.
К концу октября он дал два длинных интервью Адриану Стайрну, австралийскому фотографу и кинематографисту, получившему право на съемку короткого фильма о Филипе. Адриан договорился, чтобы съемочная группа отправилась на кладбище в Хайгете вместе с Филипом. Там была сделана фотография Филипа рядом с его будущей могилой (этот снимок можно увидеть на суперобложке книги, которую вы сейчас держите в руках).
Два заснятых Адрианом интервью дали нам материал, который мы включили в главу «Территория Смерти». Я несколько переработал этот текст, опираясь на собственные записки и примечания Филипа. Когда он говорил эти слова, ему оставалось жить не больше недели, но мыслил он абсолютно ясно, а его энергия казалась безграничной.
Пока Филип мог стучать по клавиатуре, он продолжал писать. Затем он стал диктовать свои мысли Гейл, сидевшей у его постели в больнице. Он обрисовал идеи, которые должны были лечь в основу композиции его книги, и надиктовал названия всех глав. Кое-что из этих материалов имеет фрагментарный характер, и это вполне можно понять, но я постарался сохранить почти все без изменений.
За пять дней до смерти Филип снова попал в отделение интенсивной терапии, и постоянный доступ к нему имели только три человека, хотя он продолжал принимать посетителей и обмениваться с друзьями письмами по электронной почте. Джорджия Гоулд, старшая дочь Филипа, взяла на себя трудную работу – описать последние дни жизни отца. Ее текст стал одной из глав настоящей книги. Грейс Гоулд вкратце описала свои отношения с отцом, а Гейл Ребак в послесловии рассказала о том, как четыре года протекала болезнь Филипа и как задумывалась эта книга. Последнее слово было предоставлено Аластеру Кемпбеллу: его электронное письмо, адресованное близкому другу и соратнику, было зачитано Филипу за несколько часов до смерти, а потом еще раз во время похоронной церемонии.
Его кончину оплакал весь политический мир Британии (особенно это касается лейбористского крыла), но для того, чтобы оценить величие Филипа Гоулда как человека, нам не требуется вспоминать о его политических взглядах. Всей своей жизнью он демонстрировал ту доблесть, которую редко оценивают по заслугам. Она называется энтузиазм. Его убежденность, что стоящая впереди цель достижима, вдохновляла все его окружение – от коллег до членов семьи, близких друзей и даже футболистов команды «Queens Park Rangers». Всегда открытый и дружелюбный со всеми, даже совсем незнакомыми людьми, он был всей душой предан друзьям и при этом честен и благороден по отношению к противникам. После его смерти стало понятно, сколь весомый вклад он внес в британскую политику.
Сражаясь с бедами и угрозами, привнесенными в его жизнь смертельной болезнью, он даже в этой борьбе сумел увидеть свой общественный долг. Он поставил себе целью просветить окружающих и принести им успокоение, победить то, что он трактовал как неведение и непонимание, и, конечно, страх. Именно это и были враги, сгрудившиеся вокруг него во время роковой болезни и процедур лечения.
Один раз Филип уже пережил опыт смерти. Это было в молодости, когда он присутствовал при смерти отца. «Вот последние слова, которые я от него услышал: „Это мой сын, и я горд за него“. И я решил оправдать эту его гордость». Гоулд помнил страдания, пережитые им в последние часы жизни отца. Он помнил, как мучительны были последние его вздохи, как страшил его звук смертного колокола. Эти же страхи должны были прийти к Филипу и в последний час его жизни.
Однако, ступив на Территорию Смерти, Филип решил исследовать и нанести на карту эти новые земли. Он обошел все их границы и решительно направился в самый центр неведомой страны. Данная книга – отчет об этой отважной кампании. Не так уж и важно, что она написана одним из самых влиятельных политиков последних двух десятилетий. Да, имена премьер-министров и других гигантов современной общественной жизни временами проскальзывают на этих страницах, но здесь они появляются в роли друзей, а не политических деятелей.
Эта книга не о политике. Это книга о раке и смерти. Это книга о человеке и его болезни, его семье и друзьях, врачах и медсестрах. А в самой сердцевине книги остаются жена Филипа Гейл и его дочери Джорджия и Грейс, которых он любил больше всего на свете.
Вся эта история начинается в десять утра во вторник 29 января 2008 года в одной частной лондонской клинике…
Я лежу на боку в самом центре эндоскопической лаборатории, несколько расслабленный из-за действия анестезии, но при этом в полном сознании. Я слышу тихий неразборчивый гул от разговоров персонала, а эндоскоп постепенно протискивается мне в глотку. Все, что он видит, тут же отображается на телеэкранах. Я предпочитаю на эти картинки не смотреть.
До поры до времени все идет так, как и должно быть, приглушенные голоса сообщают какую-то информацию, и тут – будто на стадионе Уэмбли забивают нежданный гол. Вся комната наполняется шумом и суетой. Врачи обнаружили опухоль, и я слышу слова: «Большая опухоль». Они говорят громко, не стесняясь, будто меня здесь нет, я словно бы наблюдаю со стороны, как решается моя участь.
Наконец эндоскоп вынимают, и врач с едва скрываемым возбуждением сообщает мне, что они только что обнаружили некое новообразование, которое наверняка является злокачественной опухолью, причем довольно крупной. Неопределенность страшит меня больше, чем сам диагноз. «Какие у меня шансы?» – спрашиваю я. «Пятьдесят на пятьдесят», – отвечает врач, и я ощущаю одновременно и отчаяние, и надежду. Все не так уж и здорово, но шансов больше, чем можно было бы ожидать. Есть за что бороться.
И тут неведомо откуда появляется хирург. Он быстро окидывает взглядом снимки и говорит, что имеет место раковая опухоль на стыке между пищеводом и желудком. И через секунду я перестаю быть хозяином собственной жизни.
Меня выкатывают из операционной и возвращают в мою палату, только теперь я уже не просто обследуемый, а раковый больной. В палату вбегает моя жена, Гейл Ребак. Ее лицо лучится надеждой и любовью, она уверена, что все будет в порядке. Всего лишь час назад мне сказали, что вероятность рака весьма мала, и я успел позвонить, чтобы развеять ее страхи. Это была ошибка – не следовало порождать ложные надежды.
Теперь я сообщаю ей страшную правду. Голос у меня хриплый, поскольку я нервничаю, и я вижу, как она на глазах надламывается, будто ее ударили в солнечное сплетение. Она говорит, что все будет хорошо, но не верит собственным словам. Я звоню дочери Джорджии, которая ведет какую-то исследовательскую работу в Манчестере. Она потрясена и никак не может воспринять эту новость. Гейл сама берет трубку и выходит из палаты, чтобы продолжить разговор. Сквозь двери я слышу их и понимаю, что обе уже в слезах. В этой ситуации самым страдающим оказываюсь не я.
Мы молча едем домой. Гейл пребывает мыслями где-то очень далеко. Она вглядывается в собственную жизнь, развертывающуюся перед ее глазами. Я чувствую себя виноватым. Получается, это я причинил ей горе.
Я сразу же принимаю решение вести себя так открыто и честно, как только можно. Я должен обсуждать случившееся с окружающими, а не решать этот вопрос в одиночестве. Да, я теперь нуждаюсь в помощи, но помощи ждут и от меня. Я не причисляю себя к настоящим лидерам, и если оказываюсь иной раз на руководящих позициях, то лишь потому, что умею объединять людей каким-то единым порывом, заражать их энтузиазмом и наделять энергией. Однако сейчас ситуация совсем другая. Теперь на меня возлагаются настоящие лидерские обязанности. Я завишу от помощи других людей, но и для них должен служить надежной опорой.
Я начал обзванивать знакомых, и разговоры с ними протекали вполне нормально. Я чувствовал их тепло, и оно придало мне силы. Я подумал, что нужно было раньше понимать, как хорошо ко мне относятся люди. В основном я слышал два утешающих аргумента. Первый: «К таким счастливчикам, как ты, болячки не липнут». Второй: «Ты исключительно сильный человек, так что и здесь выйдешь победителем». Итак, первый аргумент уже опровергнут. Остаются надежды только на второй.
В первую очередь я собирался позвонить младшей дочери Грейс, которая в это время была в Оксфорде. Мне почему-то не хотелось сообщать эту новость по телефону, и я сказал, что мы собираемся вечером ее навестить. Я добавил, что дела достаточно серьезные, но мне хочется поговорить с ней с глазу на глаз. В таком повороте тоже были свои сложности, но это было лучшее, что я мог придумать.
Мою сестру Джилл новость потрясла, но она приняла ее с присущей ей добротой. Она у меня проповедник, так что уж ей-то всегда удается найти нужные слова. Родители Гейл сразу утратили равновесие, и успокоить их было весьма сложно. Питер Джонс, мой самый близкий друг еще со времен учебы в Университете Сассекса (University of Sussex), всегда отличался неколебимым оптимизмом, но и в его голосе я почувствовал тревогу.
Аластер Кемпбелл просто впал в ступор. На своем веку он уже сталкивался с раком, и теперь ему было суждено увидеть, как еще один из его ближайших друзей и политических соратников падет жертвой этого заболевания. И тем не менее он, как всегда в сложных переделках, продемонстрировал абсолютное хладнокровие и преданность. В такие крайние моменты ему все по плечу.
Позже он перезвонил Джорджии и попытался ее успокоить. Потом она рассказала мне, что после моего звонка впала в панику, поскольку никогда раньше не допускала и мысли о моей смерти или хотя бы болезни. Она почувствовала опустошенность, пребывала в какой-то истерии, бесцельно бродила по улицам Манчестера, пока ей не дозвонился Аластер. Наши дети росли вместе, как члены одной семьи, и Калум, младший сын Аластера, который учился в Манчестере в университете, нашел мою дочь и все время был рядом с ней. Вот так, вместе, они вернули ее к жизни.
Мэтью Фройд[2], с кем отношения у меня завязались совсем недавно, заверил, что, как бы ни повернулись события, он всегда будет рядом. Мой верный друг Энджи Хантер показал образец типично среднеанглийской духовной стойкости. Впрочем, мы это видели не раз, когда он выступал в роли «стража ворот» Тони Блэра. Питер Хайман, стратег из команды Блэра, покинувший Даунинг-стрит для того, чтобы стать учителем, ото звался с присущей ему душевностью и участием. Во время выборов 1997 года мы вместе сформировали «Пакет обещаний» партии лейбористов, и эта совместная работа сблизила нас надолго.
Затем я позвонил на Даунинг-стрит. Когда-то я делал это регулярно, но в последнее время такие звонки стали редкостью. Впрочем, тамошние телефонисты меня еще не забыли, и парнишка, говоривший со мной, почувствовал, что дело серьезное, и был со мной исключительно добр. На следующий день ожидалась моя презентация перед Гордоном Брауном по вопросу восприятия его общественностью. Доклад должен был основываться на некоторых организованных мной опросах. В конце концов меня соединили с кем-то в его офисе, и я сказал, что выступить не смогу, так как у меня обнаружили рак. Буквально через несколько минут мне позвонил сам Гордон, и в его низком, скрипучем голосе чувствовалась искренняя озабоченность. Это был лишь первый из звонков, которые ему предстояло сегодня сделать. Презентация должна была обойтись без меня. Выводы, представленные в ней, не могли порадовать заказчика, и я чувствовал некоторую неловкость, что так или иначе огорчаю симпатичного мне человека.
Так и прошел весь этот день – в телефонных звонках от меня в окружающий мир и из мира мне. Какая-то часть моей души, несомненно, получала удовольствие от того, что я вдруг стал центром общего внимания, и я был готов поэксплуатировать это чувство, сделав его своего рода психологической поддержкой.
Часов в шесть вечера мы поехали в Оксфорд. Стойкая как всегда, Гейл уже держала себя в руках. Это была молчаливая поездка, и мы успели о многом передумать. Больше всего мы беспокоились о том, как воспримет эту новость наша Грейс. Когда мы приехали, она стояла с решительным видом у входа в свой колледж. На ее лице я увидел спокойную сосредоточенность. Я сразу выложил, что у меня рак в серьезной форме, и она ответила в своей манере – прямо, резко и не без юмора: «Когда ты позвонил, я сразу поняла, что нужно ждать неприятностей – либо у тебя рак, либо вы с мамой решили разводиться».
Мы поужинали вместе в теплой интимной обстановке. Правда, тревога не отпускала, и прощаться было очень грустно. Обратно мы с Гейл ехали тоже практически молча.
Так закончился первый день моей болезни.
Ночью я проснулся и на какие-то минуты не у стоял перед лавиной страхов, черных мыслей, напавших на меня, как стая демонов. Но тут включилась жажда жизни, и я начал расправляться со своими страхами почти как с врагами в видеоигре. Все угрожающие удары я отражал один за другим, выводя их из мрака на свет. Такая стратегия оказалась вполне эффективной, и отныне у этих демонов больше не было шансов на успех. (Со временем мне пришлось разработать незамысловатую форму медитации и придумать несколько простых утверждений, которые в моем случае работали безотказно. Я научился сам, своими силами менять свое настроение, а это принципиально важный навык, если вы хотите выжить, заболев раком.)
На следующий день я вернулся в Лондонскую клинику[3], чтобы переговорить с Сатвиндером Муданом, тем самым хирургом, который появился неведомо откуда во время моей роковой эндоскопии. Это был молодой, энергичный и рассудительный человек. Он чувствовал себя как рыба в воде в замысловатых течениях высокоумной беседы. Как и многие хирурги, во взглядах на жизнь он придерживался здорового скепсиса – того самого, который считает, что «стакан наполовину пуст». Да, сказал он, операция – это отчаянная боль, дальше еще хуже, три или четыре дня в отделении интенсивной терапии, где обстановка шумная и крайне неприятная. И все это ради отнюдь не гарантированного выживания и выздоровления.
После двух собеседований он дал моей жене экземпляр редактированной им книги по вопросам рака пищевода. В ней было множество цветных фотографий страшноватых опухолей самой разной природы, но самое неприятное – в книге утверждалось, что шансы на выживание не превышают 10 процентов. Прекрасное чтение на ночь для Гейл.
Так я впервые услышал о раке пищевода. Теперь я знаю – сейчас в мире случаев такого рака становится все больше и больше, и он относится к числу самых трудноизлечимых.
Теперь уже никто не может сказать, когда у меня началась эта болезнь. С младых ногтей мой организм реагировал на стресс болями в желудке, которые стали привычным сопровождением всей моей жизни. Врач сказал мне, что моя форма рака при зарождении зачастую заявляет о себе острыми болями, но потом эти боли стихают, и так может продолжаться годами, пока не становится слишком поздно. Это одна из причин, почему такой рак столь часто приводит к летальному исходу.
Приведенное описание полностью соответствует моему случаю. Когда-то я пережил короткий период крайне неприятных ощущений, но потом он прошел и сменился привычным несварением и легким покашливанием во время еды. Время от времени я обращал на это внимание и начинал беспокоиться, но это беспокойство никогда не доходило до того, чтобы отнестись к вопросу достаточно серьезно и отправиться на эндоскопию. Я знал, что раньше или позже этим придется заняться, но руки так и не дошли.
Доктор Сатвиндер ясно обрисовал мою ситуацию – если рак распространился достаточно широко, я уже не имею никаких шансов, но если опухоль еще компактна, то лечение возможно. Вся следующая неделя уйдет на подробное обследование, которое должно показать, сможем ли мы прибегнуть к хирургии. Мне манеры этого врача пришлись по душе. Он говорил четко и убедительно, а в моей ситуации он был единственным источником достоверной информации. Я нуждался в помощи здесь и сейчас, и он продемонстрировал способность действовать оперативно и компетентно.
В тот же день меня направили на компьютерную томографию, назавтра меня ждала лапароскопия, потом настал черед томографии на базе позитронной эмиссии и для ультразвуковой эндоскопии. В общем, мое будущее решали такие изощренные методы обследования, о существовании которых я и слыхом не слыхивал.
Возвращаясь домой, я буквально тонул в телефонных звонках, а в доме росли груды поднесенных цветов. В те дни я записал в своем дневнике: «Я погружаюсь в теплую волну любви многих десятков людей, эта любовь обладает почти физической силой, она будто приподнимает меня и проносит сквозь самые тяжелые минуты. А по ночам я начинаю чувствовать магическую силу молитвы». Питер Мандельсон[4] позвонил, чтобы поделиться одной бесспорной мыслью: «Будет непросто, но другие люди уже проходили через это, так что и тебе никуда не деться». Он был прав, как бывал прав почти всегда.
В четверг меня навестил Тони Блэр, и с этого визита началась совершенно новая полоса в наших отношениях. Вплоть до сего момента мы были друзьями и коллегами, достаточно близкими, но не без некоторой натянутости. Рак моментально снял все эти проблемы. Придя ко мне домой, он дал волю таким чувствам, каких я за ним раньше не замечал. Он признался, что всегда уважал мои заслуги, доверял мне, но только сейчас понял, что моя работа заслуживает более высокой оценки. Я понимал, что за этой неожиданной открытостью стояло не мое заболевание, а то, что происходило в его душе. Столкнувшись лицом к лицу со смертельной болезнью, он дал волю тем чувствам, которые держались под спудом из-за сухой атмосферы в нашей официальной и публичной жизни.
Есть тут и еще одна причина. Тони – человек глубоко религиозный, опирающийся на четкие представления о нравственных ценностях. В то же время он полагает, что эти ценности, равно как и вообще его религиозные убеждения, должны быть полностью замкнуты в сфере его частной жизни, не выступая на первый план в общественных отношениях, которые играют в его жизни столь важную роль. В его мировоззрении между Церковью и Государством пролегает отчетливая граница, так что в этом смысле его можно назвать «светским политиком».
Но вот он столкнулся с моей болезнью, и мы сразу же оказались за пределами публичной сферы, перенесшись в мир частной жизни. Вот тут и вырвались на волю его религиозные взгляды, его чувство сострадания, его нравственные устои. Теперь уже можно уверенно сказать, что Тони сделал все возможное, чтобы поддержать меня и мою семью в этом несчастье. От первого и до последнего дня он практически ежедневно проявлял заботу в той или иной форме.
Стена, воздвигнутая между общественной и частной жизнью, неизменно присутствует в судьбе всех политиков. Много охотников рассмотреть их личную жизнь под сильной лупой, но мало кто понимает их душу. На этих страницах я часто буду упоминать тех или иных политических деятелей, хотя бы просто потому, что это мои друзья, сыгравшие какую-то роль во всей этой истории. Но, кроме того, я просто хотел бы показать, что они собой представляют, когда не выступают в лучах софитов, а действуют как частные лица. И сейчас я могу твердо сказать: никто из них – без единого исключения – не подвел меня в тяжелую минуту.
В следующий понедельник я вернулся в больницу и получил результаты обследования. Доктор Сатвиндер сказал, что у меня карцинома в месте сопряжения пищевода с желудком, что сама опухоль относится к типу аденокарцином (этот тип характерен для представителей среднего класса в среднем возрасте, если они подвержены регулярным стрессам, – иначе говоря, речь идет именно о вас, читатели моей книги) и что она уже достигла пяти сантиметров в ширину. С другой стороны, пока еще не отмечено каких-либо признаков ее распространения по всему организму, так что в данный момент целесообразно было бы начать химиотерапию.
По рекомендации Сатвиндера я решил лечиться у доктора Мориса Слевина в Лондонском онкологическом центре (London Oncology Centre). Короче говоря, я полностью препоручил себя частной медицине, что изрядно огорчило мою дочь Джорджию. Она считала, что мне следует придерживаться системы государственного здравоохранения (National Health Service, NHS). В глубине души я понимал, что она права, однако в тот момент для меня естественно было придерживаться тех путей, которые были уже знакомы и сулили большую ясность. Частная медицина привлекала меня отчасти по рациональным, а отчасти и по эмоциональным причинам. Я взял за правило проводить регулярные обследования в частных клиниках, после того как мой терапевт сказал, что не слишком доверяет профилактическим обследованиям, полагая такую практику контрпродуктивной.
Когда я первый раз ощутил проблемы с глотанием и понял, что у меня не все в порядке, я без лишних раздумий обратился в частную клинику, где мне сразу же диагностировали рак и расписали все дальнейшие действия. Разумеется, и на этом этапе я мог бы поменять планы, но тогда я боялся нарушить сложившийся ход вещей, а кроме того, испытывал некое подспудное недоверие к государственному здравоохранению. Потом я избавился от этого предрассудка, хотя и не сразу. В тот момент я нуждался хоть в каком-то чувстве безопасности.
Морис Слевин оказался весьма энергичным южноафриканцем. Моя жена упрекнула его в некой «лихости», но такая оценка не совсем точна. Он был окружен атмосферой высоких технологий и современной науки, где не оставалось места для ленивой вальяжности, которая отличает мир частной медицины. Он говорил доверительным тоном, убеждая своей аргументацией (что на том, первом, этапе было для меня большой поддержкой). Он разъяснил мне, что химиотерапия почти наверняка будет не так страшна и мучительна, как мне казалось по рассказам знакомых.
Он объяснил, что меня ждет лечение, соответствующее стандартному протоколу MAGIC, принятому для рака пищевода. Он был разработан в Великобритании и получил распространение по всему миру. Конкретнее это означало три курса химиотерапии до операции и три после. Они должны были проводиться лекарствами комплекса EOX (epirubicin, oxaliplatin, cape citabine). Скорее всего, мне грозило облысение, да и то не обязательно, если пользоваться такой штукой, как «холодная шапочка» – в ходе процедур она должна была охлаждать мне голову. (Потом выяснилось, что именно эта «шапочка» оказалась самым неприятным моментом во всем процессе.)
Химиотерапия проводилась в подвальном помещении, где было светло и царила дружелюбная атмосфера. Каждому пациенту выделялось нечто вроде пары авиационных кресел. Первая процедура была назначена на 12 февраля. Она началась в девять утра и представляла собой серию внутривенных вливаний. Жидкость вводилась в мое тело через специальный «краник», который мне предварительно вживили, проведя на вене маленькую операцию.
Первым делом в меня вливали физиологический раствор, затем препараты от тошноты, после чего шли два лекарства собственно химиотерапии. Третье лекарство нужно было принимать уже дома в виде таблеток. Ни одна из этих процедур не оказалась болезненной или неприятной, хотя я был несколько напуган, увидев, что после второго вливания моя моча стала ужасающего ярко-красного цвета. Воздействие терапии было мощным, и я сразу же чувствовал, как эти препараты проникают в мое тело. В целом терпеть все это было не так уж и трудно.
Приходила Гейл и часами сидела рядом со мной, пока мне в вену текли растворы из капельницы. Иной раз при мне была Салли Морган. Салли заправляла всеми делами в политической конторе Блэра. Там за ее дружелюбием и теплотой ощущалась внутренняя твердость. Когда-то, на самом тяжелом этапе премьерской карьеры Тони Блэра, она служила ему совершенно незаменимой опорой и защитой. Теперь такая же опора понадобилась и мне.
Я же тем временем сосредоточенно настраивался на борьбу с раком. Джорджия купила мне полное собрание речей Черчилля, и я слушал их, тренируясь на беговой дорожке и готовясь к операции.
Все мысли, которые приходили мне в голову касательно моего заболевания, имели стратегический характер, будто я планировал какую-нибудь предвыборную кампанию. Выздоровление от рака я мыслил как победу, а результаты обследования – как предвыборные опросы общественного мнения. Аластер Кемпбелл называл мой рак Адольфом, а меня – Черчиллем.
Со стороны я, наверное, казался ненормальным. В некотором смысле так оно и было, но уж так я воспринимал эту ситуацию, как всегда воспринимал свою жизнь. Мне нравилась политика, а предвыборная борьба нравилась еще больше. Моя первая предвыборная кампания развертывалась в 1987 году, и я надеялся, что последняя состоится в 2010 году, хотя мне всегда казалось, что на каком-нибудь частном поприще от меня будет не меньше пользы. Но больше всего на свете мне нравился сам процесс размышлений, построения стратегических планов, поиска ответов на неразрешимые политические вопросы. Именно этим я сейчас и занимался, ни на минуту не прерывая мыслительный процесс. И думал я не просто о том, как выкрутиться из этой ситуации, а о том, как это сделать наилучшим образом.
Для меня стратегия – это не какая-то статическая картина, а непрерывно меняющийся поток. С годами я, как мне хотелось бы верить, стал спокойнее, уравновешеннее, рассудительнее, и новые задачи, поставленные передо мной болезнью, нужно было решать новыми способами. При этом главный принцип остался неизменным – сначала проблему нужно идентифицировать, а потом уже искать пути ее разрешения. Не исключено, что таких путей не окажется вообще, но подобная ситуация сама по себе потребует тоже какого-то конкретного решения.
День операции приближался, и пришла пора привести в порядок все мои личные дела. Я составил завещание и сформулировал поручения касательно моих похорон. Все это звучит гораздо страшнее, чем выглядит на самом деле. Сам процесс размышления над ритуалом похоронной службы и выбора подходящей музыки несколько рассеивает естественную для такого повода тоску. Когда мы с Гейл отправились к викарию, чтобы обсудить все технические детали, мы спорили друг с дружкой самым неприличным образом, но как только осознали, что речь все-таки идет о похоронах, сразу успокоились. Мы поняли, что сейчас самим своим поведением тоже можем нанести смерти какой-то, пусть и слабый, удар.
У меня не было никаких претензий ни к Лондонской клинике, ни к Лондонскому онкологическому центру, они исполняли свои обязанности безупречно, и тем не менее я почувствовал, что пришла пора сменить стратегию лечения. Я решил вернуться в лоно государственной медицины. Первым порывом было обратиться в клинику Ройял Марсден (Royal Marsden Hospital), но в ней только-только произошел большой пожар, и кто-то из тамошнего персонала сказал мне, что в течение некоторого времени ложиться туда на операцию было бы просто неразумно. Я переговорил с авторитетными людьми из структуры госслужбы здравоохранения NHS (в этом на неформальной основе мне очень помог Ара Дарзи, выдающийся хирург-онколог), разжился обширным списком медицинских светил и солидных учреждений, но при таком широком выборе никак не мог отважиться на окончательный шаг.
Один из ведущих консультантов из NHS, отвечая на вопрос, где и с кем у меня будет больше шансов остаться в живых, сказал без всяких колебаний: «Это Мюррей Бреннан в нью-йоркском Онкологическом центре памяти Слоуна – Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)». Эту рекомендацию я слышал уже не раз. В конце концов после бесконечных консультаций и обсуждений мы остались при двух вариантах, и оба выглядели в равной степени привлекательно – Лондонская учебная больница (London teaching hospital), где работал один весьма уважаемый хирург, и вышеупомянутый Центр Слоуна – Кеттеринга в Нью-Йорке. Эти рекомендации мы слышали неоднократно из уст людей с безупречным авторитетом, отмеченных и великодушием, и трезвой рассудительностью. Но окончательное решение оставалось за мной, и я беру на себя всю ответственность за него.
Я повстречался с обоими хирургами. Консультант из госслужбы здравоохранения оказался весьма обаятельной личностью и предложил радикальную стратегию. Он настаивал на так называемой эзофагогастроэктомии, при которой опухоль удаляется целиком. Эта операция должна была проводиться не просто через желудок, а путем вскрытия грудной клетки для более свободного доступа к операционному полю. Он полагал, что требуется удалить как можно больший объем желудка и как можно большее количество лимфатических узлов. Он предупредил, что меня ждут сильные боли и другие неприятные ощущения, что все это будет очень непросто, но люди переживают и не такое, и все эти муки вполне оправданны, так как существенно повысят мой шанс остаться в живых. Я искренне поблагодарил его, но при этом испытывал некоторую неловкость, так как не чувствовал полной убежденности в его правоте, и решил для очистки совести слетать в Нью-Йорк.
Двадцать первого апреля на весеннем солнцепеке мы с Гейл стояли на территории Центра Слоуна – Кеттеринга. Больница возвышалась над нами, как целый офисный квартал, прямо в центре Манхэттена. Больничный ресепшн создавал атмосферу не лечебного учреждения, а какого-то бизнес-центра. Над головой возносились в небо этаж за этажом, где вас были готовы вылечить от любой разновидности онкологических заболеваний. Короче, это был прямо какой-то раковый гипермаркет.
Я поднялся на этаж Мюррея Бреннана, ожидая увидеть там обстановку, типичную для британских частных больниц – тихую, салонную и чуть-чуть затхлую. Однако меня ждало нечто противоположное. Вместо комфорта – утилитаризм, отражающий и жесткие ритмы Нью-Йорка, и установки конкретно этой больницы, нацеленной на то, чтобы убивать рак любой ценой. О тишине тут и говорить не приходилось, этаж был забит народом, в основном ожидающим аудиенции лично у Мюррея. Эта публика больше походила не на пациентов, дожидающихся приема врача, а на паломников, явившихся к целителю.
Как бы то ни было, нам пришлось ждать очень долго – намного дольше, чем в какой-либо больнице до и после этого визита. Когда мы наконец дождались аудиенции, она оказалась очень короткой. Правда, за эти несколько минут доктор успел произвести впечатление, хоть и вел себя предельно сдержанно. Это был не американец, а приезжий из Новой Зеландии. Его неразговорчивость граничила с холодностью – по крайней мере, при первой встрече. К тому времени он пребывал на вершине недюжинной карьеры, вот уже более двадцати лет занимая пост заведующего всеми хирургическими отделениями в этой огромной больнице.
Как он сказал, мой случай крайне серьезен, но он уверен, что шансы выбраться у меня не так уж и малы. Он гордился своей больницей, ее высокими статистическими показателями, объясняя их не какой-то конкретной причиной, а взаимосвязанной системой, требующей совершенства на всех участках работы. Он сказал, что больница Слоуна – Кеттеринга – это не частное заведение, и 20 процентов пациентов здесь проходят лечение на некоммерческой основе.
В отличие от программы, которую нам предлагали в Великобритании, он настаивал на умеренности и не приветствовал радикальные решения. После операции он обещал не направлять меня в отделение интенсивной терапии, а сразу же перевести в обычную палату. Он намеревался провести полную резекцию (то есть удалить всю опухоль целиком), однако планировал ограничить вторжение в желудок и обойтись без вспомогательного доступа через грудную клетку, так как вообще был против таких размашистых действий.
Гейл одобрила его подход, считая его более тактичным, более взвешенным, а моя склонность к экстремальным решениям ей всегда была не по душе. Единственное, что ей не нравилось, – необходимость ездить в Америку. Кроме того, она опасалась, что уход здесь будет непоследовательным и разбросанным по разным учреждениям. Мне же все это понравилось, так как выглядело весьма смело, обещало высокие шансы выжить и не грозило очень уж большим дискомфортом.
Больница оставляла внушительное впечатление, хотя в ее атмосфере чувствовалась какая-то жесткость и неуступчивость. Несколько огорчительно было смотреть, как Гейл любую мелочь должна была сразу оплачивать своей кредиткой. Короче, на первом месте здесь стояла эффективность, а не человечность.
Вернувшись в Британию, мы чувствовали себя в подвешенном состоянии и не знали, какой вариант будет правильнее. Наша главная проблема заключалась не в том, что мы не знали верного решения, а в том, что решение нужно было принимать как бы на ничьей земле. С одной стороны, мы вступили в какие-то отношения с государственной системой здравоохранения, а с другой стороны, стать ее реальной частицей еще не успели. Да, у меня наладились контакты с консультантами из NHS, но всей полноты связей с этим учреждением еще не было. Из одной гавани мы вышли, а до другой еще не добрались.
Итак, я сделал, что было возможно в этой ситуации, опросив всех, кто вызывал у меня уважение (включая и деятелей из NHS). У меня был всего один вопрос: что мне делать? Ответ был на удивление единодушным: Центр Слоуна – Кеттеринга является самым знаменитым учреждением по этой части и, выбрав его, я приму единственно правильное решение. Что же касается каких-то альтернатив в британском здравоохранении, то здесь между моими консультантами не наблюдалось никакого согласия.
Итак, если Нью-Йорк обещал мне самые высокие шансы на жизнь, я считал себя морально обязанным выбрать именно этот вариант. А потом, в Америке я чувствовал себя как дома, часто там бывал и вообще полюбил эту страну, участвуя в 1992 году в предвыборной кампании Билла Клинтона. Я отважился на этот шаг. Мы отправляемся в Нью-Йорк. Гейл не разделяла моей уверенности. Она считала меня слишком упрямым, но тем не менее уважала мое решение.
Операция была назначена на 1 мая, то есть ровно через одиннадцать лет после нашей победы на выборах 1997 года. Я счел это неплохим предзнаменованием, но все равно не мог избавиться от беспокойства. Эта дата отбрасывала тень на все мое будущее, и с каждым днем она придвигалась все ближе. Меня страшило не столько то, что могло произойти, сколько неотвратимость этого. Если что-то случится, никаких вариантов спасения у меня уже больше не будет.
На смену весне пришло раннее лето, а вместе с ним и день отъезда в Нью-Йорк. Гейл собиралась отправиться в Америку попозже, так что я летел один. Из аэропорта я взял такси и проехал через весь город, как прежде делал много-много раз. В знакомой нью-йоркской обстановке я чувствовал себя в безопасности, а сознание, что у меня впереди еще целая свободная неделя, придавало мне сил. Впрочем, где-то в глубине души росла тревога.
Да, это был Нью-Йорк, но не совсем тот Нью-Йорк, какой я знал раньше. На этот раз я был не туристом, а пациентом, и все картинки, увиденные из окна, сразу стали какими-то размытыми. Я остановился в отеле на 64-й Стрит. Персонал оказался не слишком дружелюбным, но у меня имелся небольшой балкончик с видом на город, и, хотя я был один, одиночества я не испытывал. Мне очень нравилось, что никто ко мне не пристает. Просыпаясь по утрам, я проводил часок в тренажерном зале, делал дыхательные упражнения и бродил по Центральному парку.
Дети сунули мне в дорогу фотографии всего нашего семейства, и я расставил их по квартире. Кроме того, они подарили мне футболку со знаменитым «дзенским псом», которую просили надеть в день операции. На ней красовалась надпись:
Он не знает, куда плывет, ибо за него это решит океан. Важна не цель, а сам подвиг странствия[5].
Эти слова весьма точно соответствовали моему тогдашнему состоянию.
В течение следующих дней мне снова сделали компьютерную томографию и эндоскопию. Обе процедуры были выполнены на очень высоком профессиональном уровне, тщательно и осторожно.
Затем у меня состоялось новое свидание с Мюрреем Бреннаном. На этот раз он уже выглядел не таким недоступным, хотя какая-то сухость в его манерах оставалась. Он сказал, что будет относиться к этой операции как к операции на желудке, а не на пищеводе, и повторил, что меньше всего ему хотелось бы вскрывать грудную клетку. Ставка будет на то, чтобы обойтись только вскрытием желудка.
Я расспросил медсестру, как все будет происходить в день операции. Она сказала, что в этот день мне нужно будет явиться в больницу утром, провести пару часов в комнате ожидания в компании жены, а затем в одиночестве отправиться по длинному коридору в огромную операционную. Прозвучало это так, будто речь шла о последнем пути осужденного на казнь. Сестра заботливо напомнила, что мне стоило бы взять с собой какое-нибудь успокаивающее.
Гордон Браун позвонил мне в Нью-Йорк и спросил, сколько времени должна длиться операция. Я ответил, что от шести до восьми часов, на что он заметил: «Не так уж и плохо, примерно столько же времени заняла моя операция на глазах». Не припомню, чтобы Гордон когда-нибудь разговаривал в таком тоне. Это был момент настоящей близости.
В день перед операцией я написал письма каждому из членов семьи на тот маловероятный, однако же возможный случай, если я ее все-таки не переживу. И пока я писал эти письма, я дошел до настоящего срыва. Началась истерика.
После обеда приехала Гейл. Она была тогда (да и сейчас является) гендиректором издательского дома «Random House», так что работа у нее весьма напряженная. У меня в голове не укладывалось, как она сможет просидеть со мной в Нью-Йорке целых два месяца, работая при этом в местном офисе своей компании. Мне казалось, что я не заслуживал такой самоотверженности.
Повозившись часок-другой, Гейл превратила гостиничные апартаменты в некое подобие жилой квартиры, после чего мы долго разговаривали. Это был вечер невообразимой близости. Рак – это, конечно, большая неприятность, однако он же может послужить источником самых нежных чувств. Я никогда не забуду этого вечера.
В день операции я проснулся в тревоге и каком-то нездоровом возбуждении. Я надел подаренную футболку, и мы вышли из дома несуразно рано. Разумеется, мы умудрились по дороге заблудиться и какое-то время беззлобно препирались по этому поводу. Поднявшись на лифте, мы прошли в комнату ожидания. Приехал Мюррей в яркой красной бандане. Сжав меня в медвежьих объятиях, он сказал: «Теперь моя забота спасти вас». В этот момент я доверился его власти и ост ро почувствовал его человеческую заботу.
Через полтора часа ожидание закончилось. Мы прошли метров двадцать рука об руку с Гейл, а затем она отстала и я пошел дальше в одиночестве. Войдя в операционную, просторную и поблескивающую разным оборудованием, с видеоэкранами под потолком, я увидел в центре крошечный стол, теряющийся в грандиозных масштабах остальной обстановки. Мюррей не обратил на меня внимания, занимаясь в углу чем-то своим. Я взобрался на стол, и анестезиолог моментально избавил меня от всех страхов.
Я увидел над собой яркий свет и понял, что пока еще жив.
Я сглотнул с облегчением. Значит, жив, и это уже очень приятно. Вошла Гейл, я заговорил с ней, пригласил детей. Грейс выглядела озабоченной, Джорджия была просто счастлива. Этой ночью я совершенно не спал, смотрел телевизор и до утра ощущал прилив адреналина.
Я не помню, чтобы когда-нибудь еще чувствовал себя таким счастливым. Впрочем, отчасти это ощущение счастья было иллюзорным, вызванным принятыми стероидами. Наутро я перебрался в мою постоянную палату. Это была небольшая, скупо обставленная, строгая комнатка, которую я делил с одним подвижным ньюйоркцем, который болтал не умолкая. Окна в комнате не было. Забавно, конечно, но это помещение явно создавалось не для удовольствия, а с чисто утилитарными целями.
Гейл рассказала, как у нее прошел день. Это был сущий ад. Ждать, не имея никакой информации, пока наконец не появился Мюррей Бреннан в запачканном кровью белом халате, совершенно вымотанный, будто он все это время, как китобой, сражался с кашалотом. Он сказал, что операция оказалась исключительно тяжелой и он сделал все возможное, лишь бы только не пилить мне ребра. Вся борьба состояла в том, чтобы состыковать два обрезка пищевода, между которыми еще недавно располагалась опухоль.
Об этом дне Мюррей оставил запись в своем дневнике: «Сегодня провели эзофагогастроэктомию у лорда Гоулда. Операцию удалось провести со стороны желудка, однако из-за высокого анастомоза работать было очень трудно». Похоже, эта операция доставила ему хлопот – так же, как и мне.
Я устроился поудобнее в своей новой комнатке и затосковал. Отовсюду у меня торчали трубки – даже из носа. Лицо утратило естественный цвет, приобретя зловещую белизну. Как сказала Гейл, я больше походил на мертвеца, чем на живого человека. Ей было тяжело смотреть и на эту палату, и на тонкую занавеску, отделяющую меня от соседа, и на мое нездоровое лицо, и вообще на всю эту ненормальную ситуацию. Несколько дней я не мог пить и только сосал ватные палочки, смоченные водой.
Кроме того, возникла проблема взаимопонимания. Во рту у меня пересохло, из носа торчала трубка, так что я едва мог говорить, а если и говорил, то очень неразборчиво. Большинство медсестер не могли понять меня и подозревали, что я над ними издеваюсь. Я сравнивал себя с соседом-ньюйоркцем, который только хрипел, но все сестры понимали его без малейших затруднений.
В общем, день прошел так себе, однако ночь оказалась еще хуже. Под воздействием морфия ночные часы превратились в непрерывно копошащийся клубок из страхов и темных сил. Стены комнаты никак не могли стоять спокойно – они смещались, шевелились, выгибались и всячески стремились меня напугать. Вот на что были похожи эти ночи – на бесконечный нью-йоркский стеб и коварный текучий мрак.
На следующий день мое душевное состояние еще ухудшилось. Я проснулся, уже с утра чувствуя упадок сил, а боль, которую я испытывал после операции, меня совсем доконала. Я почувствовал, что единственный способ побороть эту ситуацию – отступление и попытка сохранить оставшиеся силы.
Для себя я назвал это (пусть и не очень удачно) «стратегией ящерицы». Залечь, спрятаться, замаскироваться, отступить. Впрочем, эта тактика не сработала. Зато и хирург, и медсестры по моему поведению сделали вывод, что у меня явно не хватает жизненной энергии, чтобы управлять своими внутренними процессами. Если я пытался прекратить излучение своей энергии вовне, то и ко мне не поступала никакая энергия из окружающего мира.
Мюррей укрепился в подозрениях, что мое подавленное состояние является следствием какого-то кровотечения, поскольку в ходе операции не удалось полностью и правильно соединить разрезанные части. Сразу же была назначена повторная компьютерная томография. Меня заставили выпить контрастную жидкость, что не доставило мне никакого удовольствия, а потом попросили на время сканирования принять такую позу, которая теперь, после операции, была почти невыносима. Томография не показала никакого кровотечения, но этот урок я усвоил хорошо. У меня все идет нормально, когда я настроен на позитив, а вот без оптимистических установок ситуация сама по себе тяготеет к развалу, а вовсе не наоборот. С этого момента я пошел на поправку и завоевал доверие персонала. Моя жизненная траектория явно смотрела вверх.
Прямо со второго дня, даже после такой тяжелой операции, как моя, медперсонал заставляет пациентов активно двигаться. В моем случае это помогло остановить накопление жидкости в легких. Это, как полагают, должно было снизить вероятность пневмонии.
Подвижность – это значит ходьба. Так или иначе, но меня выгнали из постели, прицепили все мои трубки и бутылочки к тележке и погнали меня на прогулку, которую я назвал дорогой смерти. Это было бесконечное движение по коридорам вокруг внутреннего дворика. Каждый шаг давался с немалым трудом, а полный круг по хирургическому отделению казался вечностью. Сначала от меня требовали пройти пять кругов, потом десять, потом двадцать.
В этом занятии я был не одинок. Были и другие пациенты, недавно перенесшие такие же или похожие операции. Они так же нарезали круги по коридорам, напоминая не людей, а какие-то передвижные агрегаты на колесиках, над которыми возвышаются человеческие головы – тщательно вымытые, бледные до белизны и с затравленными глазами. Никто не говорил ни слова и даже не улыбался. Мы просто брели по коридорам, как привидения.
Но отвлечемся от этого мрачного парада покойников – мои дела день за днем подвигались в лучшую сторону. От меня отключали одну за другой многочисленные трубки, а через неделю я уже мог ходить без посторонней помощи, демонстрируя фантастические возможности человеческого тела, когда речь идет о борьбе за жизнь.
Дважды в день меня навещала Гейл и проводила со мной немало времени – и это в ситуации, когда ей еще приходилось работать на пределе сил. В больнице ей не нравилось – она считала это заведение слишком черствым и бездушным. В некотором смысле она была права, но этот жесткий стиль лежал в основе всех здешних успехов. Мы наблюдали, как работает предприятие по уничтожению рака, и я не мог не уважать его бескомпромиссную нацеленность на борьбу с этой болезнью. Таков Нью-Йорк, город, где неженкам не место.
Каждый раз, когда Гейл пыталась перевести меня из двухместной палаты в какую-нибудь из одиночных, которые тоже имелись на нашем этаже, она сталкивалась с тем, что палата уже оказывалась занятой. Потом одна из медсестер подсказала мне тайный путь к у спеху. Она сказала, что единственный верный способ – это самовольный захват пустующей палаты. Просто берите все свои манатки и вселяйтесь в комнату, пока вас не опередили. Так я и поступил.
Такие вот порядки царят в нью-йоркских больницах. Впрочем, с каждым днем мне там нравилось все больше и больше.
Постепенно ко мне стал возвращаться дар речи. Это уже был не хрип и шипенье пересохшим ртом сквозь пластиковые трубки. Я хорошо узнал медсестер, и они оказались мастерами своего дела. Команда медсестер с нашего этажа была удостоена звания лучшей бригады по всему Северо-Востоку США. В среднем они проводили на рабочем месте больше десяти часов подряд и при этом не утрачивали ни заботливости, ни такта. Они обходились без униформы, ходили просто в джинсах и футболках, но свои обязанности выполняли поистине безупречно.
Врачи здесь тоже заслуживали самых высших похвал. Многие из них приехали сюда с разных концов света на должности практикантов – лишь бы обогатить свою профессиональную биографию коротким периодом работы в самой лучшей онкологической больнице. Все они отличались острым интеллектом и неугасимой любознательностью. Я проводил часы в беседах с ними. Короче, я бы не сказал, что полюбил эту больницу, но до сих пор восхищаюсь ею.
Через пять дней после операции Мюррей ворвался в мою палату, исполненный такого энтузиазма, которого я никак не ожидал при его сдержанном характере. «У нас на руках результаты гистологии, и они прекрасны!» – сказал он. Ни в одном из лимфатических узлов не обнаружено раковых клеток, так что я могу снова строить планы на жизнь.
Он все говорил, объяснив, что его прежняя немногословность была следствием опасений, что хотя бы в одном из лимфатических узлов обнаружится рак. Такой поворот событий резко снизил бы мои шансы на жизнь. Теперь же он просто лучился оптимизмом – у меня была честная 75-процентная вероятность прожить еще как минимум пять лет.
Я ощутил прилив надежды и того воодушевления, какое не раз посещало меня в жизни. Это бывало во время выборных кампаний, когда становилось ясно, что, несмотря на все препятствия, победа у меня в руках.
А через два дня, как это часто бывает в онкологии, после шага вперед пришлось сделать два шага назад. Шов покраснел и начал болеть. Мюррей сказал, что это результат инфекции. Он отказался использовать антибиотики, поскольку они провоцируют рост MRSA[6]. Оставалось только вскрыть зашитый разрез и создать все условия для естественного заживления. Доктор был уверен, что рана зарубцуется за две-три недели.
Из-за обнаружившейся инфекции мне пришлось испытать процедуру под названием «тампонирование», и не скажу, что это был самый приятный период в моем онкологическом путешествии. Тампонирование – это когда в открытую рану посредством деревянной лопаточки засовывают свернутую марлю. Комок марли впихивается до самого дна раны, а потом сверху добавляется еще марля до тех пор, пока все пространство раны не будет заполнено. Процедура была не очень болезненной, но приятной ее не назовешь.
Хуже, пожалуй, был только предшествовавший тампонированию процесс промывания раны, причем не снаружи, а изнутри. Трудно забыть вид этой огромной дышащей полости кроваво-красного цвета, уходящей так глубоко внутрь тела, что дна этой ямы я просто не видел. И все это пространство нужно было заполнить водой.
Такая процедура проводилась два раза в день более двух месяцев.
В день перед выпиской из больницы мою рану должен был освидетельствовать один из младших врачей.
Единственное место, где он мог это сделать, – амбулаторное отделение, которое по сути являлось службой скорой помощи. Именно через этот канал больница взаимодействовала с бедными слоями населения, получающими медобслуживание бесплатно. Это было весьма аскетично оборудованное помещение, которое в лучшем случае можно было бы назвать строго функциональным. Ни о каком комфорте здесь уже речи не шло. Многие из ожидающих помощи были из числа афроамериканцев, у многих на лице было написано отчаяние. Особенно мне запомнилась одна пара. Он – пожилой мужчина с трубкой для кормления, вставленной прямо в гортань. Ему было больно, он задыхался, и его хрипы разносились по всей комнате. Лицо его жены выражало одновременно любовь и ужас. Я улыбнулся ей, но она смотрела куда-то мимо меня и никак не отреагировала.
Но вот доктор пригласил пациента в кабинет, она осталась одна и сразу же ответила мне широкой улыбкой. Она сказала, что эти редкие минуты одиночества приносят ей облегчение, ведь когда она с мужем, расслабиться не удается ни на секунду. А ей постоянно приходится быть рядом с ним, все время, день за днем, ночь за ночью.
Я начал понимать, что такое рак для людей без лишних денег, без ухода, без страховки, без надежной медицинской помощи. Этим двоим еще по везло – мужчину все-таки лечили, причем в медицинском учреждении экстра-класса. А каково приходится тем, кому недоступно такое медицинское обслуживание, тем, кто живет не в США, а где-нибудь еще? Рак – это мучительное заболевание, но в бедности, без подобающего ухода и лечения он превращает жизнь человека в сущий ад.
На следующий день я покинул больницу и вышел на теплые солнечные улицы. Стояла середина мая. Деревья стояли в цвету, и трудно было хоть на миг не почувствовать себя счастливым. Ведь я прошел через испытание. Я победил.
Мы вернулись в гостиницу, и я попытался наладить обычную, нормальную жизнь. Однако норма теперь стала весьма относительным понятием. Я вышел по ужинать, съел немного курятины, и она застряла у меня в горле. Я едва добрел до дома, мучаясь от приступов боли и тошноты. Потребовалось два часа, чтобы очистить пищевод от остатков еды. И так повторялось раз за разом. И если для меня это было непросто, представляю себе, какой мукой это было для Гейл.
Тем временем тампонирование моей раны продолжалось. Два раза в день эту процедуру выполняли в больнице две медсестры. Все дни были подчинены строгому распорядку. Прогулка по парку, несколько неудачных попыток что-нибудь съесть, вечерами политические новости, где все вертелось вокруг американских праймериз.
Разумеется, мне было очень интересно вечер за вечером следить за предвыборной кампанией. Мне очень нравилась Хиллари Клинтон – и в политическом, и в чисто личном плане. Совместная работа с ее мужем в ходе кампании 1992 года разносторонне обогатила меня. Тем не менее я уже понимал, что победит Обама – наступил его час.
Был один момент, когда я нарушил устоявшуюся рутину. Ко мне наведался в гости Эд Виктор, мой литературный агент и давний друг. Мы вместе смотрели по телевизору финал Лиги чемпионов – матч между «Chelsea» и «Manchester United», проводившийся в Москве. Но все остальное время я делил между политическими новостями и дренированием раны.
Вот так и проходили дни моей нью-йоркской жизни.
Тридцатого мая я улетел в Лондон. Теперь я твердо решил сделать ставку на больницу Ройял Марсден и договорился о собеседовании с профессором Дэвидом Каннингемом, руководителем отделения желудочно-кишечных заболеваний.
Перед этой встречей я переговорил с моим частным онкологом Морисом Слевином. Он выразил полное несогласие с прогнозами Мюррея Бреннана. Он сказал, что слой здоровых тканей, вырезанных вместе с опухолью, был слишком тонок и что по его прикидкам вероятность метастазов в течение пятилетнего срока составляет 60 процентов. Иначе говоря, он сулил 40-процентную выживаемость за этот срок, а не 75 процентов, заявленных Мюрреем. Он настоятельно рекомендовал применить лучевую терапию, что прямо противоречило рекомендациям, полученным мной в Нью-Йорке.
Затем я повидался с хирургом из NHS, чьими услугами пренебрег с самого начала. Мой собеседник высказался весьма категорично. По его словам, операцию провели неправильно, удалили слишком мало лимфатических узлов, тогда как нужно было провести полную резекцию с доступом через грудную клетку. Кроме того, он с полной уверенностью заявил, что моя рана будет заживать еще месяц-полтора, что у меня обширная грыжа, что в результате инфекции и открытой раны у меня наблюдается спадание стенок желудка и для того, чтобы его спасти, потребуется еще одна весьма серьезная операция.
Эта ситуация привела меня в растерянность и напугала, хотя я был не первым и не последним. Медики редко бывают единодушны в своих суждениях. Разногласия неизбежны, иной раз в мелочах. А иногда и принципиальные. Я сообщил Мюррею, что мне сказал английский хирург-онколог, и за этим последовала яростная трансатлантическая битва. Мюррей был разозлен и не сомневался в своей правоте. Все это звучало как продолжение войны за независимость, и я был готов встать на сторону Мюррея.
Ройял Марсден мне понравился прямо с того момента, когда я ступил под его кров. Здесь теплая, дружелюбная обстановка сочеталась с высоким профессиональным уровнем. Со временем я пришел к убеждению, что для меня предпочтительнее больницы, полностью специализирующиеся на лечении рака. Врачей там объединяют сходная специализация и общая цель. Да и пациенты чувствуют себя как бы в одной лодке, и это понимание разделяется персоналом.
Со временем Марсден стал для меня как родной дом. По духу он принципиально отличается от американского Центра Слоуна – Кеттеринга, где все одержимы идеей функциональности, где на каждом шагу встречаешь толпы сверхкомпетентных консультантов и знаменитых врачей, уверенных в своем превосходстве и отважно штурмующих раковые бастионы.
Марсден, напротив, скромен по своим масштабам, что не мешает ему быть знаменитым по всему миру.
В нем культивируется принцип, согласно которому главная цель, состоящая в борьбе с раком, не должна вступать в противоречие с заботой о качестве жизни тех, кто участвует в этой борьбе. Здесь не бросается в глаза непреклонное упорство, характерное для Слоуна – Кеттеринга, но многочисленные эксперты мирового уровня, работающие в Марсдене, делают это британское учреждение равным американской больнице.
Обмен информацией внутри больницы поставлен не очень хорошо, и это иной раз может раздражать, и тем не менее достоинства Марсдена затмевают недостатки. Как я уже говорил, Марсден относится к системе государственного здравоохранения, и хотя 30 процентов ее доходов составляют поступления от частной клиентуры (и от меня в том числе), этот факт не оказывает принципиального влияния на здешний стиль работы.
Возможно, лечение в американской больнице внушает пациентам больше доверия и проходит более эффективно, но зато атмосфера в больнице Марсден несравненно теплее, менее формальна, а среди пациентов царит дух человеческого равенства.
Профессор Дэвид Каннингем, всемирно известный онколог, должен по праву считаться главным создателем системы химиотерапии MAGIC, которая спасла и продлила так много человеческих жизней. Когда в начале июня мы направились к нему на прием, он встретил нас с некоторой настороженностью. Я ведь вернулся в Марсден на середине прерванного лечебного цикла, отказавшись от услуг авторитетной больницы в США и от химиотерапии на Харли-стрит. Я хорошо понимал, как должен смотреть врач на такого пациента, тем более что наши прежние решения он явно не одобрял.
Я не сомневаюсь в его компетентности и других профессиональных качествах, однако при первой встрече он был с нами скорее холоден, чем радушен. Первое впечатление оказалось не вполне адекватным, и в дальнейшем я имел счастье увидеть все богатство его души, но эта сторона его натуры раскрывалась перед нами в течение долгого времени. Он обладал тем уровнем профессионализма, который требовался в нашем сложном случае. Правильные решения и глубинное видение проблемы приходили к нему именно в те моменты, когда они были нужнее всего.
У Дэвида было достаточно великодушия, чтобы признать все бесспорные достоинства больницы Слоуна – Кеттеринга и согласиться, что, если проходить химиотерапию в Лондоне, лучшим вариантом было лечение у Мориса Слевина. Это было очень мило с его стороны, но, думаю, и мои аргументы сыграли определенную роль.
Он несколько изменил протокол химиотерапии, предписав прием капецитабина не в течение двух недель из трех, а без пропусков, строго каждый день. Я был обеспокоен тем, что, вопреки рекомендациям Мориса, отказался от лучевой терапии. В этом отношении он успокоил меня, сказав, что и сам не рекомендует эту процедуру.
Я спросил его, каковы мои шансы на жизнь. Он не взял на себя какой-то конкретной ответственности, но успокоил меня, сказав, что все не так уж плохо. В общем, когда мы расставались, я был о нем более высокого мнения, чем он обо мне.
Спокойно и уверенно я приступил к послеоперационной химиотерапии. Этот урок мы уже проходили, и мне было нетрудно его повторить. Правда, тут меня ждало еще одно заблуждение, характерное для онкологических больных, – все мы слишком легко доверяемся чужим суждениям.
Процесс заживления шел медленнее, чем под присмотром Мориса, но все-таки шел, а младший медперсонал работал безупречно. Мы приезжали в больницу к девяти, а домой отправлялись в пять. Это были тяжелые дни, но мы как-то справлялись.
Но когда я добирался до дома, все выглядело уже по-другому.
Во время первого цикла химиотерапии мой организм легко справлялся с потоком вливаемых препаратов, но теперь изобилие сильных ядов, закачанных мне в кровеносную систему, явно давало о себе знать. Я ощущал непрерывное болезненное покалывание в пальцах и стопах, так что всякое прикосновение к чему-либо, вынутому из холодильника, было почти невыносимо. Я постоянно ощущал себя во власти циркулирующих по моему телу чуждых мне препаратов. Давнее ощущение холодной шапочки, столь раздражавшее меня во время первого цикла химиотерапии, теперь распространилось с головы до ног.
Ужас химиотерапии состоит в том, что ты круглые сутки пребываешь в ее власти. Эти вещества постоянно в тебе присутствуют, преследуют тебя неприятными ощущениями, совершенно не похожими на обычную боль или послеоперационный дискомфорт. Там вы можете при некотором волевом усилии воздвигнуть ментальный барьер между этими ощущениями и вашим сознанием. А вот в случае химиотерапии этот барьер полностью отсутствует. Ваш организм уже трудно отделить от медикаментозного воздействия, а ваша кровь превращается в ядовитый раствор, омывающий каждую частицу вашего существа.
В течение следующей пары дней стероиды как-то держали меня на ногах, но уже к выходным я почувствовал в горле кислое жжение, за которым последовали слабость и тошнота. Возникли проблемы с приемом таблеток, не говоря уж о простом питании. Мой организм взбунтовался, будто я непрерывно страдал морской болезнью. В таких муках прошли две недели, но на третью стало полегче, и я смог чуть расслабиться.
Второй цикл давался мне гораздо тяжелее. Кислое жжение не просто поселилось в моем горле, а полностью его захватило. Тошнота не отступала ни на миг и сопровождала каждую попытку что-нибудь съесть. Прием таблеток стал настоящей мукой, битый час я сидел в кресле у окна и через силу пропихивал в горло одну таблетку за другой.
Мое время стало отмеряться не днями и часами, а минутами, а потом я отсчитывал его секунду за секундой. Такова жизнь онкологического больного – она не похожа на отчаянное героическое сражение. Это тысячи мелких стычек, крошечных побед, когда вы движетесь к финалу шаг за шагом, преодолевая свое несчастье глоток за глотком, минуту за минутой. Это отвага слабых.
Я лежал, ссутулившись на диване и отдавая все силы процессу существования, глядя прямо перед собой, не желая ни есть, ни говорить, ни даже шевелиться. Гейл потом рассказала мне, что для нее это были самые тяжелые дни, когда я с белым, как у привидения, лицом лежал неподвижно, глядя в одну точку.
В больнице, видя мои мучения, предлагали сократить объемы инъекций, чтобы несколько облегчить химиотерапию, однако я не желал идти ни на какие компромиссы со своей болезнью, хотя, честно говоря, уже был на грани капитуляции.
Ситуация тем временем становилась все хуже и хуже. Это был единственный момент во всей моей онкологической истории, когда я действительно начал падать духом, растекаться, как квашня.
Мне позвонила Маргарет Макдонах, неукротимая личность, бывший генеральный секретарь лейбористской партии. «Эта химиотерапия меня доконает», – сказал я. Маргарет, которая всегда была стальным стержнем в сердцевине движения «новых лейбористов», была просто оскорблена тем, сколь бесстыдно я демонстрирую свою слабость, и заорала на меня в голос: «Филип, ты опять все напутал! Это не химия тебя доканывает, а ты, лично ты вот-вот ее прикончишь!»
Меня так напугало ее бешенство, что ничего не оставалось, кроме как взять себя в руки и продолжить борьбу.
Позвонил Дэвид Бланкетт[7], приказал мне держаться до последнего и выразил уверенность, что меня ничто не остановит. В словах Дэвида была какая-то животная сила. В ней можно было почувствовать след пережитых несчастий и мужество, которое выковалось в борьбе с ними. Нечего и говорить, он вдохнул в меня столь необходимое упорство.
К тому времени у меня скопилась целая коллекция средств от тошноты. Ее хватило бы на небольшую аптеку, причем новинки поступали в нее практически ежедневно. Но все это – увы! – не действовало.
Как-то в субботу в конце дня я почувствовал, что моя правая рука теряет чувствительность. Затем этот эффект перешел на левую руку, потом на шею, лицо, губы. Постепенно меня охватывал паралич. Я запаниковал, уверенный, что это сердечный приступ или удар.
Практически утратив дар речи, я как-то объяснил Гейл, что со мной происходит, и мы поехали в отделение скорой помощи при больнице Университетского колледжа (University College Hospital, UCH). Там в приемном покое было полно народу, как всегда по субботам. Я стоял посреди холла, не чувствуя ни лица, ни рук, ни шеи, молча раскачиваясь из стороны в сторону подобно обветшавшему огородному пугалу. Мое лицо, рассказывала потом Гейл, выглядело как ископаемая окаменелость.
Перед нами в очереди стояли еще двое, и у обоих наверняка были веские причины для обращения к врачу, но мою жену уже ничто не могло остановить. «У него сердечный приступ, и это на фоне рака!» – прокричала она. Через минуту я уже лежал в отдельной палате и мне снимали кардиограмму, после чего сделали еще уйму анализов.
Врачи практически сразу догадались, что все мои симптомы отражали болезненную реакцию на одно из лекарств, которые я принимал от тошноты. Они вкололи мне антидот. Буквально через несколько минут паралич отступил и я почувствовал себя, как прежде. И вообще я благодарен этой больнице – они были очень добры ко мне, и во всех критических ситуациях, через которые я прошел, их помощь была бесценной.
Лечение тем временем продолжалось, как продолжалось и тампонирование моей раны, и этой муке не было конца. И тут появилась Донна Луиза Спенсер. Старшая медсестра из больницы Святого Фомы (St’ Thomas’ Hospital), она по совместительству обслуживала и таких больных, как я. Для меня она стала настоящим спасителем.
Чтобы вырваться из лап онкологического заболевания, человеку требуется помощь, причем она может прийти откуда угодно – от служащей в регистратуре, друзей или врача. Через мучения двух следующих недель меня провела именно Донна. Она сказала, что я принимаю слишком много таблеток от тошноты и нужно умерить мои аппетиты.
Она знала, что в Марсдене должен быть консультант по контролю за симптоматикой. И она нашла этого врача – доктора Джулию Райли. Она была блестящим специалистом, взявшимся отслеживать все меры, которые я принимал против тошноты. Она выдала мне специальное устройство (капельницу-дозатор), которое с нужной скоростью вводило мне в руку все необходимые лекарства.
Короче, так или иначе, но я выкарабкался.
Прямо на следующий день после того, как у меня закончилась химиотерапия, мы с Гейл отправились в путешествие на поезде «Evrostar» от вокзала Сент-Панкрас (нам сказали, что в моем положении летать на самолете опрометчиво). Конечной точкой нашего маршрута должна была стать Венеция. В Париже была пересадка, а потом маленький скрипучий вагон, с парой узких кушеток в купе, понес нас сквозь ночь дальше на юг. Мы проснулись как раз когда поезд въезжал в Венецию. Сияло солнце, лечение моего пищевода подошло к концу, и меня ожидала новая жизнь.
Это были мои лучшие дни, но в каком-то смысле их можно было бы считать и худшими днями. Как ни странно, но впервые услышанный роковой диагноз становится не так страшен из-за той решительности и скорости, с которой свежеиспеченных пациентов направляют на лечение. Эта решительность создает настроение борьбы, целенаправленных действий и надежды на победу. А вот в тот момент, когда лечение завершено, конечная цель как бы исчезает, то есть пациент лишается той структуры, которая его только что поддерживала. И ты оказываешься один на один со своей судьбой.
Я помню свои противоречивые чувства: с одной стороны, радость, что и химиотерапия, и хирургические мытарства уже позади, а с другой стороны, страх перед тем, что мне может готовить будущее. Я вдруг ощутил себя в маленькой лодчонке, плывущей посреди безбрежного моря.
Разумеется, это психологическое состояние давно изучено, и вам предложат определенную помощь, которая подготовит вас к новому повороту судьбы. В Марсдене имеется для этой цели даже небольшой специальный отдел. И все равно в определенный момент вы чувствуете жгучее одиночество.
В сердцевине всех моих страхов крылось сознание, что болезнь может вернуться. При моем типе опухоли опасность рецидива распределяется во времени неравномерно, и самая высокая вероятность метастазов приходится на первые два года после операции с пиком в первый год. Если вы протянете хотя бы пару лет, у вас будет хорошая вероятность, что проживете и пять. А уж если вы будете живы через пять лет, можете считать, что просто выздоровели.
Я сбился со счета, сколько раз врачи рисовали мне этот график, указывали на высокую вероятность первого года, круто снижающуюся в течение второго и далее год за годом остающуюся на уровне, близком к полной безопасности. Итак, передо мной стояла цель продержаться без метастазов ближайшие два года. Казалось бы, не так уж и долго. Но ощущаются эти годы как настоящая вечность.
Перед завершением курса лечения я повидался с Дэвидом Каннингемом, и мы обсудили мои дальнейшие планы. По его словам, выйдя за порог этого кабинета, я должен начать новую жизнь, хотя никто меня не освободит от регулярных компьютерных томограмм – чтобы отслеживать процесс выздоровления и убеждаться в отсутствии метастазов. Первая томография назначена на сентябрь, следующая на декабрь, а потом их нужно будет проводить два раза в год.
Сканирование само по себе совершенно безболезненно. Нервирует только ожидание результатов. Это как сбор данных соцопроса, которые предскажут вашу будущую жизнь.
И никто не облегчит вам эту ситуацию. Нам с Гейл неизбежно придется являться пораньше и дожидаться Дэвида, скрывая изо всех сил свое беспокойство. Самое тяжелое в этом ритуале – первые шаги, когда входишь в приемную. Здороваешься со всеми, вглядываясь в их лица, отслеживая жестикуляцию, выискивая любые мелкие штрихи, которые могли бы что-то сказать о ждущем тебя приговоре. Все это проделываешь очень быстро, с чувством нереальности происходящего, будто во сне.
Если у вас все хорошо, это обычно говорят сразу: «Не беспокойтесь, все благополучно». Однако если у врача для вас плохие новости, он наверняка начнет с какой-то ученой болтовни о вашем состоянии, потом перейдет к описанию случаев, когда все сложилось хорошо, а под конец выдавит из себя огромное «но», которое повиснет в комнате, заслонив все остальное. С тех пор для Гейл нет в языке более ненавистного слова, чем «но».
Первая томограмма, сделанная в сентябре, оказалась чистой, но так и должно было быть. Вторая, в декабре, тоже была благополучной, и я начал расслабляться. Дэвид сказал, что самой важной будет третья томограмма, и в ожидании следующей встречи мы стоя ли перед дверями его кабинета в состоянии, близком к панике. Однако этот скан тоже оказался полностью нормальным.
Так мы дожили до декабря 2009 года, то есть выдержали двухгодичное испытание, прошли через самый коварный скан и встали на пороге будущей здоровой жизни. В тот раз я все-таки не выдержал и немножко сжульничал. Слоняясь под дверями кабинета, где сидел Дэвид, я подслушал его слова: «У Филипа на этот раз с анализами все в порядке», но не сказал об этом жене. Я боялся, что хорошие новости, полученные не совсем официальным способом, могут потом не подтвердиться. Мы вошли в кабинет, и на этот раз Дэвид выглядел таким радостным, будто выиграл в лотерею. Он не сказал, что я выздоровел, даже не намекнул на это, но весь его вид показывал, что он уверовал в мой успех.
«В течение ближайшего года можете ко мне уже не приходить», – сказал он, и прозвучали эти слова как поздравление с победой. Я все-таки настоял на следующем визите через полгода, поскольку осторожность и суеверие проели всю мою душу. Но вот мы с Гейл вышли на вечернюю улицу, вдохнули зимнего воздуха и ощутили, что победа за нами. Двухлетний барьер преодолен, никаких метастазов, а значит, статистика теперь на моей стороне. Все будет хорошо.
Снова закрутилась моя жизнь. Почти сразу же я полетел в США на какие-то переговоры (возможно, тут я все-таки поторопился). На Рождество мы провели сказочную неделю на Ямайке, понежились на солнцепеке и морском ветерке. Я погрузился в работу, занимаясь Фрейдом и не упуская из виду политические заботы. Я был полон решимости вернуться в свою колею и набрать прежнюю скорость.
Мой распорядок дня если и изменился, то совсем чуть-чуть. Каждое утро зарядка, каждый день медитация. От каких-то расплывчатых представлений о духовной сфере я сдвинулся в сторону серьезной, осознанной религиозности. После пары месяцев занятий я принял англиканство, и церковь Всех Святых на Маргарет-стрит стала моим святилищем и духовным приютом. Я даже стал слушать курс философии в колледже Беркбек Лондонского университета (Birkbeck, University of London).
Я продолжал напряженно работать и по самым разным поводам посещал США. Работа приносила мне удовлетворение и отодвинула в прошлое все мои больничные переживания, но к концу года я заметил, что теряю равновесие.
Наша двадцать пятая годовщина свадьбы приходилась на 2010 год, и Рождество мы провели в Индии, в южной Керале, куда ездили в наш медовый месяц. Под руководством одного местного гуру я два раза в день медитировал, часто посещал ашрамы, не облюбованные туристами. Здесь ко мне наконец пришел покой, но, как оказалось, ненадолго. Близилось время всеобщих выборов, и я собирался принять в них самое активное участие. Я считал, что пришла пора таким людям, как я, заявить о себе во всеуслышание.
Глядя на меня, Гейл все больше беспокоилась. Ей не нравилась моя увлеченность политикой, она считала, что именно здесь корни моей болезни. Она стала замечать у меня некоторый упадок сил и апатию, которые связывала с моим диагнозом. Она написала мне записку с просьбой сбавить обороты. Вот ее слова: «У меня разрывается сердце, когда я вижу, как ты губишь себя у меня на глазах. Ничто не стоит твоей жизни. А в центре твоих забот снова стоит политика, такая разрушительная сила. Один раз она тебя чуть не убила, так не дай ей это сделать со второй попытки».
Гейл обладала каким-то шестым чувством относительно меня и моего здоровья, и предвестники несчастья ей были видны наперед. В этом она была не одинока. Примерно в то же время я получил похожее письмо и от Грейс: «ОСТАНОВИСЬ! Ты ведешь себя, как идиот. Тебе нужно расслабиться и отдохнуть. У тебя есть долг перед мамой, вспомни, как она заботилась о тебе, когда ты болел. И было бы просто несправедливо снова заставить ее страдать. У тебя сейчас отличный повод уйти от всей этой политической суеты. Для таких игр у тебя уже кишка тонка (да, прости дочери эти слова!)».
Похоже, я действительно двигался куда-то не в ту сторону.
На само двадцатипятилетие нашей свадьбы мы отправились в Иорданию, и поездка прошла прекрасно. Однако даже там я диктовал в штаб-квартиру текстовки для предвыборных передач, стараясь не подавать виду, когда Гейл оказывалась рядом.
Когда мы вернулись домой, я попробовал устроиться так, чтобы достаточно эффективно заниматься политикой, не нанося в то же время ущерба здоровью. Это было трудно, поскольку политика меня увлекала. Я был полон решимости не дать в обиду лейбористскую партию, но на поверку был уже слишком усталым, и мой вклад в партийное дело все больше становился символическим.
Где-то в разгар предвыборной кампании я полетел в Штаты, чтобы выступить там с речью, и попал в западню из-за облака вулканической пыли, перекрывшей на несколько дней авиационные полеты почти по всему миру. Застрять на другом берегу Атлантики – это было обидно, даже унизительно. Зато эта ситуация заставила меня немного отдохнуть и пересмотреть свои взгляды. Я увидел в этом знак, что пришло время меняться. Правда, потом оказалось, что для меня было уже слишком поздно.
В конце концов я вернулся домой. Наступил день выборов, и они прошли своим порядком. После кампании я заметил потерю веса и почувствовал, что процесс принятия пищи сильно осложнился. Я позвонил Казу Мохлински, онкологу из Марсдена, который специализируется на гастроэнтерологии, – еще недавно он оказал мне неоценимую помощь. Он сразу же направил меня на анализы.
И вот снова томография. На томограмме все было чисто, и я несколько расслабился. Но когда попал на прием к Дэвиду Каннингему, тот выглядел не очень-то уверенно. Он сказал, что по всему томограмма совершенно нормальная и радиолог подписал ее расшифровку, подтвердив, что она не указывает на наличие метастазов, но на его лице было написано сомнение. Некоторое время он сидел перед компьютером, глядя на поделенный пополам экран: на одной половине – мой пищевод по июньской томограмме, на другой – новый скан. Переводя глаза с одного скана на другой, он сказал, что на картинках нет никаких следов опухолей, но тем не менее стоило бы сделать кое-какие дополнительные анализы.
Мне сделали еще одну позитронную томографию, а потом доктор Бенсон провел эндоскопию. Он держался уверенно и, еще не введя зонда, сказал, что это явно не рак. К моменту завершения эндоскопии он свое мнение изменил.
Что-то там есть, сказал доктор Бенсон, но он не уверен, что это именно опухоль. С другой стороны, ему уже стало ясно, что рак вернулся. Осталось только взять биопсию, чтобы развеять все сомнения.
Через пару дней, 9 июня, позвонил Каз и сказал, что биопсия продемонстрировала наличие раковых клеток. Он, как всегда, смотрел на вещи оптимистично и сказал, что дело поправимое. Можно будет, к примеру, на этом раннем этапе снова провести операцию. Впрочем, мне-то уже было ясно, что я переступил какой-то роковой порог и оказался в новой, куда более опасной зоне.
Этот факт я воспринял с тем спокойствием, которое свойственно мне при получении плохих новостей. Я их слышу, но понимаю не до конца, выискивая способ, как бы негатив тут же превратить в позитив. Однако на сей раз ситуация была посложнее. Для меня это было не неудачей, не отчаянием, не поражением. Это был настоящий шок.
Позвонил Дэвид Каннингем и постарался вдохновить меня на борьбу. Он выразил соболезнования, сказал, что был абсолютно уверен в победе, что подобные локальные рецидивы практически никогда не случаются так поздно, тем более при моем типе опухоли и проведенном лечении. Он обещал, что будет поддерживать меня на каждом шагу и не допустит моего поражения. В нашем телефонном разговоре отчетливо проявился его характер, его душевная сила, и это как-то повлияло на мое настроение.
Из Нью-Йорка позвонил Мюррей Бреннан и сказал, что у меня рецидивов он никак не ожидал. Как он сказал, это его потрясло. Впрочем, что бы там ни говорили врачи, спустя два года и четыре месяца после первоначального диагноза болезнь вернулась.
Рецидив всегда сильно отличается от того, что бывает при первом диагнозе.
Моя первая реакция, когда я услышал о раке, – готовность вступить в битву и победить. Я видел перед собой темную дорогу, которая все-таки вела к свету, и это определяло все мои взаимоотношения с болезнью. А вот сообщение о метастазах подействовало совершенно по-другому. Дорога, лежавшая передо мной, куда-то исчезла, и я остался по сути ни с чем, мир превратился в мутную картинку, как в неисправном телевизоре.
Казалось, мой мозг и органы чувств перестали правильно действовать по причине какого-то общего сбоя. А по мере того как приходили новые безрадостные результаты анализов, становилось все хуже. У меня на глазах рушился генный код моей жизни. Я привык сражаться и побеждать, привык держаться за свой оптимизм, поскольку он всегда бывал вознагражден, но сейчас происходило нечто противоположное. Я был полон решимости сражаться, но как?
Десятого июня мы отправились в Ройял Марсден в Саттоне и встретились с Дэвидом Каннингемом. Он выглядел озабоченным. За два дня до этого мне сделали еще одно сканирование, и его расшифровка, очевидно, оказалась совсем плохой. Опухоль была большой и продолжала расти. Действовать следовало без промедления.
Вот такой поворот. Мне представлялось, что где-то в моих внутренностях блуждает пара бесхозных раковых клеток, но уж никак не здоровенная вырвавшаяся из-под контроля опухоль, продирающаяся вверх по пищеводу наподобие злобного пришельца из киноужастика. Дэвид предложил программу возможного лечения. Оно должно было начаться с химиотерапии, за ней могла последовать операция, потом еще химиотерапия, а в завершение – облучение.
И тут я четко увидел свои перспективы – меня ждет все то, что я уже проходил, но теперь, как заботливо указал Дэвид, операция будет не рядовая, а из разряда самых сложных, теперь помимо химии меня ждет радиация, но при этом шансов выжить остается намного меньше.
В первом раунде я как-то обошелся без радикальной хирургии, но во втором я ее получу по полной программе, и это в момент, когда у меня осталось несравненно меньше сил. Было впечатление, что боги наказывают меня за то, что на первом этапе у меня было недостаточно решимости.
Мне было очевидно, что планы Дэвида представляли собой не дорожную карту, указывающую прямой путь к цели, а всего лишь догадки, как можно выкрутиться из этой ситуации. Дэвид записал свои предложения на клочке бумаги, придав им некое подобие серьезности. Но правда состояла в том, что нам предстоял полет вслепую. Если метастазы распространились по организму, никакие меры мне уже не помогут. Если опухоль не уменьшится под воздействием химиотерапии, то продолжать ее будет бессмысленно, а операция станет фантастически сложной, если не вовсе невыполнимой.
Однако при всех сложностях Дэвид подарил мне надежду, а именно это мне и требовалось. Дела обстояли не слишком хорошо, на зато на руках у меня имелся этот клочок бумаги. Передо мной снова замаячило некое подобие дороги.
Терять время было нельзя. Дело происходило в четверг, а химиотерапия должна была начаться уже во вторник. Та оперативность, с которой врачи принялись за дело, вызвала у меня уважение, но при этом и тревогу. Рак нужно было остановить.
На этот раз протокол химиотерапии оказался уже другим, так как Дэвид опасался, что опухоль приобрела некоторый иммунитет к тем лекарствам, которые использовались в первый раз. Он сказал, что мне скоро станет легче глотать, облегчение должно непременно наступить, и оно станет подтверждением, что опухоль уменьшается. Идея состояла в том, чтобы по возможности под воздействием химии сжать опухоль почти до нуля.
Объяснения Дэвида выдали его собственное беспокойство. Каждый раз, когда я обращался в больницу в процессе лечения, они спрашивали, как мне глотается. А с этим у меня не было никаких улучшений. Я уже конкретно ощущал свою опухоль, и она, судя по всему, продолжала расти как ком в горле. И боль нарастала с каждым днем.
После двух сеансов Дэвид прекратил химиотерапию по первому рецепту и снова записал меня на сканирование. Позвонил Каз и попросил, чтобы я зашел к Дэвиду, из чего я сделал вывод, что дела мои совсем плохи. Выяснилось, что рост опухоли прекратился, но ее размеры не изменились. Мне сказали, что это не страшно, но протокол химиотерапии сразу же поменяли, вернувшись к тому, который использовался в первый раз, то есть к EOX. И снова спрашивали, не стало ли легче глотать, но легче не становилось. После первого сеанса Дэвид заказал новую томограмму, но результаты были все те же – рост опухоли прекратился, но ее размеры не изменились.
Дэвид сказал, что нам ничего не остается, кроме хирургического лечения. Никто не знал, возможно ли оно вообще, но если возможно – откладывать нельзя. У меня создалось впечатление: если сейчас эту опухоль не остановить, она сделает завершающий решительный бросок.
Я провел вечер с Тони Блэром. Не то чтобы я плохо себя чувствовал, но решимости у меня уже не было. Я не видел никакого выхода. Но почему так случилось? Первый диагноз я понял и принял. Я подцепил рак, как это может случиться с каждым, и я поборол его, действуя со всей решимостью, которая была мне по силам. Я принимал все прописанные таблетки, соглашался на все процедуры, делал все, что от меня требовалось, прошел через критические два года, и все-таки эта зараза вернулась. Почему она снова здесь?
Тони выдержал секундную паузу и медленно сказал: «Потому что рак не был вылечен. Он не смог покончить с тобой с первого раза, но он хочет реванша. Ты изменился, но не настолько, насколько было нужно. Теперь ты должен перейти на еще более высокий духовный уровень. Используй возвращение болезни для того, чтобы найти истинную цель в жизни».
Тони был прав. От меня требовалось понять, зачем вернулась моя болезнь, требовалось разгадать истинные цели моего рака.
Тем временем около меня возникало нечто вроде заговора. В Марсдене я все чаще слышал разговоры, что такого рода рецидив мог случиться только вследствие каких-то ошибок в первой операции и только тогда он мог локализоваться там, где болезнь проявила себя в первый раз.
Я организовал по телефону конференцию с Мюрреем Бреннаном, руководившим этой операцией, при участии моей жены. Я ожидал, что он с присущей ему самоуверенностью отвергнет с порога все инсинуации насчет хирургических ошибок. Однако я этого не дождался. Проявив определенное мужество, он согласился, что в той операции он мог совершить ошибку и оста вить не удаленной слишком большую часть желудка, в которой оставались спящие раковые клетки.
Он признал, что в той ситуации, возможно, от него требовалось больше решимости.
Я принял эти слова без возмущения и отдал должное его честности. А вот Гейл лишь тихо хмыкнула, выразив этим не печаль, а сдержанную ярость. Такое объяснение ее отнюдь не удовлетворило.
Гейл никогда не умела спокойно воспринимать плохие новости – особенно если их причины можно было бы устранить заранее. По сути, британские хирурги оказались правы: в моей ситуации следовало действовать более радикально. Но тут легко судить зад ним умом. Когда я принимал решение, я переоценил достоинства американского варианта, и теперь вся ответственность ложилась только на меня.
Потом мне еще доводилось беседовать с Мюрреем об этой операции, и я не уставал повторять, что он великий хирург. В жизни не всегда все происходит так, как мы планируем. Такова уж ее природа.
Мюррей звонил мне на всех этапах дальнейшего лечения, выражал свою солидарность и предлагал помощь. В течение всей игры он не покинул нашего поля. Все-таки он остался в моих глазах прекрасным человеком.
Дэвид Каннингем тоже не сдавался. Он порекомендовал нам профессора Майка Гриффина из больницы Ройял Виктория (Royal Victoria Infirmary) в Ньюкасле. Именно Майк организовал Северное отделение по лечению рака пищевода и желудка (Northern Oesophago-Gastric Cancer Unit) – крупнейшую клинику такого рода не только в Великобритании, но и во всей Европе. Дэвид был убежден, что на текущий момент Майк, пожалуй, самый лучший в мире хирург этой специализации, что он поднялся на самую вершину профессиональной карьеры. Майк мог мне честно и объективно сказать, возможна ли операция в моем случае. Короче, мне надлежало как можно скорее ехать в Ньюкасл.
Я позвонил Мюррею Бреннану. Он сказал, что хорошо знаком с Майком Гриффином, не раз бывал в его заведении и что Майк действительно будет лучшим кандидатом на выполнение такой операции. Более того, Мюррей признал, что лучше было бы, чтобы Майк сделал и первую операцию, и теперь остается только сожалеть, что он сразу не высказал этой рекомендации.
Разумеется, это была не его вина. В десятках собеседований с высшими авторитетами госслужбы здравоохранения никто и не упоминал о Ньюкасле или о Майке Гриффине. Алан Милберн[8], который никогда не отказывал мне в помощи, и на этот раз не поленился провести маленькое исследование. Он провел в Интернете целое утро, пытаясь понять, возможно ли обычному онкологическому пациенту связаться с клиникой Майка Гриффина или вообще хоть с одной подобной клиникой, специализирующейся на опухолях пищевода. Ответ был отрицательным. По крайней мере, если глядеть из Лондона, клиника Майка оказывалась в своего рода информационной черной дыре.
Вечером я сам позвонил Майку Гриффину, и он мне сразу сильно не понравился. Я уже привык к раскованным, доверительным беседам с различными консультантами, когда вокруг царит атмосфера обоюдного уважения и чуть ли не панибратства.
Майку такой подход был абсолютно чужд. Он ясно дал понять, что решения здесь принимает он, а не я, что никакой уверенности касательно исхода этой операции не может быть вообще и что его больница подведомственна NHS, а лично он является лицом, облеченным определенными полномочиями. Он уведомил, что впереди меня ждет недельное обследование, а затем некая коллегия, на которой будет вынесено решение относительно будущих лечебных мероприятий. Короче, всю власть он безоговорочно взял в свои руки.
Мне все это очень не понравилось. Я хотел, чтобы мне сделали операцию независимо от результатов всех этих анализов, и, разумеется, совершенно не был готов передать власть над своей жизнью в чужие руки.
В Ньюкасл я приехал 21 сентября 2010 года. На этот раз путешествие завершилось совершенно не так, как я привык. Одно дело аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, и совсем другое дело Центральный вокзал в Ньюкасле. Мой поезд въехал под вокзальный навес в викторианском стиле, поддерживаемый широкими арочными сводами, – неотъемлемый атрибут любого британского вокзала.
На такси я доехал до гостиницы, где рассчитывал провести не одну ночь. Это было большое безликое здание, обращенное фасадом на реку Тайн. Правда, из моих окон открывался изумительный вид на радикально перестроенный город. Ньюкасл – это, конечно, не Нью-Йорк, но в нем есть свое обаяние.
Встав на следующий день чуть раньше, чем требовалось, я отправился на такси под дождиком в Королевскую больницу в нескольких шагах от Сент-Джеймспарк, где построили знаменитый стадион клуба «Newcastle United».
На первую неделю меня определили в крошечный жилой блок поблизости от отделения заболеваний пищевода. В нем было всего лишь пять палат, причем большая их часть пустовала. Медсестры были на удивление дружелюбны. Я прошел все основные этапы первичного обследования, после чего лежал в постели и ждал решения своей судьбы.
В палату вошел Майк Гриффин, и я сразу понял, что мои прежние суждения не соответствовали истине. Он был одет в хирургическую спецодежду, и от него исходило ощущение уверенности и авторитета. Рядом с ним я сразу почувствовал себя в безопасности. Он сел на краешек моей постели и без реверансов перешел к делу. Мое состояние крайне серьезно, сказал он, и спасти меня может только операция. Правда, нет никаких гарантий, что я смогу ее выдержать.
Сначала я пройду весь комплекс предоперационного обследования, а в конце недели состоится консилиум, на котором специалисты обсудят мой случай. Решение будет принимать не он, а целая коллегия профессионалов. Он говорил очень сурово, но эта суровость внушала хоть какую-то надежду.
Он учился в Эдинбурге, в привилегированном частном колледже Феттеса (Fettes College) – примерно в те же годы, когда там учился Тони Блэр. Впрочем, мое долгое сотрудничество с Блэром не повысило мои акции в его глазах. Потом он играл в регби за Шотландию, после чего вплотную занялся медициной. Вот тут и выяснилось, что смыслом всей его жизни является борьба с раком пищевода. Он долго выбирал место, где можно было бы основать специализированную клинику, остановился на Ньюкасле и создал тут самый большой и, похоже, самый лучший центр такого рода во всем мире.
Он работал по семь дней в неделю с шести тридцати утра до десяти вечера. Это был непрерывный процесс, при котором он как минимум по два раза в день общался с каждым своим пациентом. Он на уровне подсознания не доверял южанам, «новым лейбористам» и частной медицине. Короче говоря, мне тут был оставлен немалый простор для самосовершенствования.
Прошло недельное обследование, завершившись эндоскопией, которую наш мэтр провел собственноручно. Позже вечером он зашел ко мне в палату, и я почувствовал, что в нашем противостоянии весы склоняются в мою сторону.
Он не имел права принять самостоятельное решение об операции, но имел все основания сказать мне, что при эндоскопии не обнаружил ничего, что могло бы этой операции помешать. Иначе говоря, он включил для меня маленький зеленый светофорчик. Потом мы немного поболтали вообще об онкологии и о смысле жизни, и я стал рассказывать о моих похождениях на этом поприще.
Немного послушав, он резко перебил меня, посмотрел мне в глаза и сказал, что моя главная и единственная ошибка состояла в том, что я вышел из-под покровительства NHS. Если бы я доверился государственным врачам, я бы не оказался в нынешнем положении. Я попробовал возразить, объясняя тогдашнюю ситуацию, но для него эти соображения выглядели чистым надувательством. Я отказался от государственной опеки и был за это наказан. Он, напротив, всей душой служит национальному здравоохранению и верит, что эта служба блестяще исполняет свой долг благодаря людям, преданным общественному благу, которое значит больше, чем любые частные интересы.
Он не верил в возможности частной медицины, особенно в области лечения рака. Он считал, что эта система развращает врачей и сбивает приоритеты в клинической работе. Я не готов с ним полностью согласиться, но понимаю, что в этих аргументах есть своя правда. В британском государственном здравоохранении господствует дух служения обществу, это главный стержень в работе медиков. Понятно, почему люди относятся к этим врачам с таким почтением.
Впрочем, Майк смотрел на вещи не так уж однобоко.
Он знал Мюррея Бреннана и преклонялся перед его талантом, соглашаясь, что больница Слоуна – Кеттеринга – выдающееся медицинское учреждение. И тем не менее он был убежден, что в конце концов, когда речь заходит о реальной борьбе с болезнями, частная медицина является социальным злом.
В этом смысле мы стояли на прямо противоположных точках зрения. Его ничуть не смущало существование частных школ (в то время как я их совершенно не одобрял), зато он со скепсисом смотрел на частную медицину (а у меня по этому поводу были более либеральные взгляды). Возможно, причина кроется в том, что его отец был уважаемым хирургом в системе государственного здравоохранения, а оба моих родителя были учителями в государственных школах. Впрочем, в моем случае он оказался абсолютно прав – лучше мне было остаться под крылышком NHS.
Если бы я только послушался моей дочки Джорджии!
На следующее утро приехала Гейл, и мы с беспокойством ждали приговора, который огласит Майк. Я смотрел на вещи с большим оптимизмом, меня грели воспоминания о беседе, состоявшейся предыдущим вечером, хотя, конечно, после такого потока плохих новостей моя склонность к беспочвенным надеждам заметно умерилась.
Майк без волокиты дал нам понять, что операция возможна. Однако, даже если она пройдет успешно, у меня останется всего лишь 25-процентная вероятность пережить следующие пять лет. Имелся также 30-процентный шанс, что, начав операцию, они не смогут ее завершить, так как не сумеют удалить опухоль. Для меня это была самая ужасная перспектива.
Была примерно такая же степень риска, что, уда лив опухоль, они не смогут полностью восстановить целостность пищевода, а это значит, что у меня в горле останется трубка для кормления. Похоже, мою жену это уже не волновало. Я был нужен ей живым, и ей было плевать, с трубкой во рту или без.
Итак, еще одна операция влекла меня в совершенно неизведанные воды. Она обещала быть тяжелее, чем предыдущая, и сейчас никто не мог предсказать, как дорого она мне обойдется и как скажется на качестве моей будущей жизни.
Я спросил, какой срок жизни мне отпущен, если обойтись без операции. Майк ответил – от шести месяцев до года. Он спросил о моем решении: согласен ли я на эту операцию или предпочту обойтись без нее. Это был глупый вопрос – разумеется, я настаивал на операции. Я четыре месяца боролся за это право, и вот мне его предоставляют. Мне нужна жизнь, и я согласен идти по ней с трубкой в горле. Мне назначили дату, 26 октября, и мы отправились домой счастливые.
Оставшееся время я использовал на всю катушку, общался с дочерьми, катался с ними по свету и проехался до Венеции с женой. Почти все время со мной была Грейс, и я был счастлив. Джорджия тоже не покидала меня слишком надолго. Я, как мог, подготовился к грядущему событию, переписал письма, адресованные членам моего семейства, еще раз переговорил с викарием относительно похорон. На этот раз я был увереннее в себе, но и печальнее. Мне очень не хотелось расставаться с семьей, и особенно с женой.
В пятницу, перед операцией, меня навестил Тони – точно так же, как пару лет назад. Он сказал, что одной из самых больших драгоценностей, какие у него есть, является колечко VI века, привезенное с горы Синай. Он подарил его мне на счастье. Я был тронут этим подарком, но и несколько озабочен, поскольку боялся, что потеряю его. У меня вообще вещи теряются очень легко.
В субботу 23 октября мы с женой отправились в Ньюкасл в нашу квартирку, современную и роскошную, как с картинок в таблоиде «Жены футболистов». Она была в самом центре города, так что через окна до нас доносились звуки ночной жизни. Ничто – ни дождь, ни снег, ни штормовые ветра – не в силах остановить ньюкаслскую молодежь, помешать ей по ночам выбираться на улицы и развлекаться так, как они считают нужным. С другой стороны, эти ребята были столь дружелюбны, что трудно было не отплатить им той же монетой.
Вселившись в квартиру, мы в тот же вечер отправились поужинать. Странно было ощущать себя в толпе гламурной молодежи младше меня лет на сорок. Обратно мы пробирались на прохладном ветру, стараясь не наступить на студентов, которые беспечно использовали мостовую в качестве временного ложа.
Ночь прошла спокойно, но мы, стреляные воробьи, знали, каково это – спать перед операцией. На следующий день мы явились в отделение опухолей пищевода (блок 36) точно вовремя, будто пунктуальность могла хоть чуть-чуть повысить мои шансы.
Я расположился в достаточно просторной палате с телевизором и небольшой душевой. А потом меня пропустили через череду специалистов, и каждый объяснил, сколь мрачно выглядит мое самое близкое будущее.
Таков стиль работы Майка Гриффина – вести себя с пациентом честно и открыто, не скрывая от него темных сторон действительности. Вот специалисты, посетившие меня один за другим. Отличный анестезиолог Конор Гиллан, сказавший мне, что эпидуральное воздействие – самый предпочтительный способ снятия боли. Скорее всего, оно будет достаточно эффективным, но может и не подействовать. Потом Рэйчел, выдающаяся операционная сестра, сказавшая, что будет тяжелее, чем мне сейчас кажется. Затем пришел человек из реанимации и сказал, что мои ближайшие дни будут подобны пытке – мне придется прожить как минимум неделю без сна и еды.
В эту череду вклинился и сам Майк, откровенно озабоченный, и напомнил мне, что, возможно, операцию придется прекратить сразу после ее начала. Он заразил меня своим страхом – уж больно не хотелось прийти в себя после операции лишь для того, чтобы у знать, что она закончилась неудачей.
К концу дня у меня уже не оставалось сил даже на переживания. Гейл тоже получила свое сполна. Наши гости достигли своей цели, доведя нас до полной покорности. Еще раз зашел Майк, увидел Гейл и пригласил ее для успокоительного разговора. Когда они вышли, я почувствовал себя совершенно одиноким. Я немного поспал, часто просыпаясь в надежде, что утро наступит не слишком скоро.
Гейл приехала в шесть. Я не понимал, откуда у нее силы, чтобы привести себя в равновесие. А после этого у нас завязалась совершенно дурацкая в этой ситуации семейная перебранка. Я весьма опрометчиво позволил себе ночью пить воду, а медсестра предупреждала меня, что это может вызвать определенные проблемы в ходе операции. Гейл просто не могла поверить, что я вел себя так по-идиотски. С другой стороны, эти дрязги помогли нам как-то провести следующий час.
Затем в палату вошел Майк, излучая уверенность, и успокоил нас обоих. Мы отбросили все сомнения, перестали бояться, что операция сорвется. Мы встали во весь рост, чтобы соответствовать этому моменту.
В восемь утра за мной пришли, и второй раз за последние два года я покинул Гейл и отправился на операцию. Я шел по длинным коридорам в сторону операционной, переживая в равной степени и страх, и возбуждение. Обратной дороги уже нет. Нужно пойти на этот шаг, и, невзирая на все свои страхи, я был исполнен решимости. Я был готов ко всему.
Я вошел в крошечный предбанник перед операционной, где анестезиолог Конор возился со своими снадобьями. Испытывая почти непреодолимый страх, я всеми силами держался за остатки решимости, которая все еще вела меня вперед. Я чувствовал, что операция наезжает на меня, как железнодорожный состав. Осталось всего несколько секунд.
В боевой ситуации принято ценить мужество, но перед лицом неизбежности важнее оказывается простое хладнокровие. Оно нужнее всего не только когда карты ложатся в вашу пользу, но и когда судьба явно против вас.
Конор хорошо справился со своими обязанностями, хотя ему пришлось повозиться с моей костистой спиной, тем более что мое беспокойство очень мешало ему работать. В какой-то момент игла попала в ребро и вызвала невыносимую боль. Я начал сдавать, но тут эта процедура закончилась, и я потерял сознание.
Тем временем мою Гейл ожидало томительное бдение – из операционной я должен был появиться почти через 24 часа. С самого начала операции ей звонили и писали проникнутые заботой и состраданием эсэмэски самые разные люди. Впрочем, все они знали, что в этой ситуации самым лучшим признаком будет отсутствие каких-либо новостей, и чем дольше продлится операция, тем больше у меня будет шансов на жизнь.
Час следовал за часом. Через пять часов Гейл вышла прогуляться и столкнулась с Майком, который тоже вышел размяться. Он сказал, что операция на желудке прошла нормально. Теперь нужно было меня повернуть и начать вскрытие грудной клетки. По крайней мере, уже было ясно, что операцию не прекратят раньше времени.
Прошло еще пять часов. Майк появился снова и сказал Гейл, что, хотя операция была очень сложной, завершилась она полным успехом. Она вбежала, чтобы меня увидеть. Я был, как она потом рассказывала, скорее мертв, чем жив. И все-таки она разослала всем моим друзьям мейлы со словами, что Майк совершил чудо.
Операция и в самом деле была тяжелой, так что меня оставили под воздействием наркоза, и всю ночь дыхание обеспечивалось специальным аппаратом. Гейл была потрясена тем, как бдительно и заботливо ко мне относился персонал в реанимации. Примерно в шесть они решили осторожно меня разбудить. Я вернулся к жизни совсем не так, как это было в Нью-Йорке.
В тот раз я проснулся на ярком свету, направленном мне прямо в лицо. Я помню, мне показалось, что я загораю на солнце. На этот раз я ощущал себя на дне сумрачного моря, а свет был где-то далеко вверху, приглушенный, мерцающий, едва пробивающийся сквозь волнующуюся поверхность.
Постепенно свет приблизился, и я услышал какие-то звуки. Чей-то голос произнес: «Дело сделано. Операция прошла успешно». В ту же секунду я обрел покой.
Затем я ощутил у себя во рту вентиляционную трубку, толстую и какую-то корявую. Начался кашель, я почувствовал спазмы и ужасную боль в горле – в том месте, где шланг соприкасался со свежей раной. Чем больше я кашлял, тем злее была боль, пока не стала просто невыносимой, буквально неописуемой.
У меня подскочил пульс, боль, страх и удушье объединились и повергли меня в полный мрак. Я знал, что это было самое суровое испытание в жизни, которое не каждый способен преодолеть.
Правда, я уже не чувствовал себя одиноким. Моя боль каким-то странным образом связывалась со страданиями других людей в этом мире. В этот переломный момент я ощущал не одиночество, а чье-то сопереживание, некое мистическое осознание силы человеческого духа.
Я собрал все свои силы, чтобы обуздать боль. Попробовал медитировать, но это не помогло ни на грош. Попытался молиться, но не знал, за что зацепиться, чтобы начать. Боль и страх набирали силу. И тут я подумал о Гейл. Если она смогла выдержать мои муки в течение целых суток, то я просто обязан их вытерпеть.
И этого оказалось достаточно. У меня хватило сил продержаться, пока они не вытащили трубку из моего горла. Страшный момент оказался позади. Я смог его преодолеть. Пока.
Будто сквозь водную толщу я увидел, что ко мне подошла Гейл. Я не мог говорить, со всех сторон торчали трубки, и смотрелся я, наверное, отвратительно. Она выглядела озабоченной, усталой, было видно, как она нервничает, но при этом она просто лучилась надеждой и любовью. Она все повторяла: «Ты победил!»
А потом, чтобы ее успокоить, я поднял палец, имея в виду призыв к тишине. Гейл увидела мой жест и поняла его как какую-то просьбу. «Ему что-то нужно, но что?» Вокруг меня сгрудились медсестры, гадая, чего я от них потребовал. В разочаровании я снова расслабился, погрузившись в мысли, почему никто меня не понимает. Впрочем, эта маленькая сценка, столь характерная для нашей семейной жизни, доставила мне удовольствие.
Ко мне постепенно возвращалось зрение, и я смог как-то рассмотреть пространство, в которое меня поместили. Везде было множество медицинских приборов, трубок и медсестер. Двенадцать коек и центральная зона управления и контроля. Оглядываясь вокруг, я отметил контраст между ярким освещением реанимационной зоны и тем мраком, который окружал меня. Рядом со мной лежали не только люди, уверенно движущиеся к выздоровлению после тяжелых операций, но и те, которых болезнь не хотела отпускать, кому приходилось отчаянно бороться за жизнь, кто оставался на плаву только благодаря медицине и внимательнейшему уходу.
У одного мужчины была серьезная пневмония. Он лежал, не имея возможности ни говорить, ни двигаться, пребывая в некоем «лимбе» сугубо индивидуального страдания. Другой перенес тяжелый инсульт, он непрерывно стонал, как днем, так и ночью. Одного из пациентов так скрутила физическая и душевная боль, что он однозначно показал всем, что желает умереть. Его друг сидел рядом и молился.
Я никогда раньше так близко не сталкивался с болью, смертью и тяжкими страданиями. Этот мир очень повлиял на Гейл. Она почувствовала, что всякая жизнь висит на волоске, что тропинка, по которой мы шагаем в кажущейся безопасности, всего лишь иллюзия. Естественно, эта обстановка как-то влияла и на медицинский персонал, особенно на молодежь. Оказавшись бок о бок со смертью, они должны были наладить с ней какие-то личные отношения. Они нуждались в разговорах на эту тему – о том, что же это значит, и о том, что они могут и должны делать.
Я видел здесь и моменты надежды, и моменты тайны. На второй день моего пребывания в реанимации одного из пациентов навестили сестра и жена. Они сели рядом с ним – одна пожилая и седовласая, а другая бойкая, средних лет – и начали петь. Это было не тихое интимное пение, они пели громко и открыто. Безо всякого предупреждения по комнате разлились завораживающие куплеты «Дэнни Бой». И тут случилось нечто примечательное. Все в комнате прекратили свои дела, повернулись к поющим и замерли, будто подвешенные в паутине жизни между реальностью и чем-то явно нематериальным. Так все и сидели, пока голоса не стихли через пять или шесть песен. Будто бы время остановилось, потому что было уже не нужно.
Бывали, конечно же, и фарсовые моменты. Вдруг у меня перестала выделяться моча. С каждым часом становилось все хуже и хуже. Сначала врачи думали, что это просто потому, что я мало пью. Правда, со временем они докопались до настоящего объяснения, о котором я уже давно подозревал. Дело в том, что засорился мой катетер и его просто нужно было заменить. Меня эта перспектива несколько пугала, поскольку я думал, что будет больно.
Вокруг задернули занавески, и около моей койки собралась небольшая толпа любопытствующих медиков. Мне показалось, что моя личная неприятность представляет для них некое захватывающее зрелище. Заправлял всем один хирург, и он быстро вынул старый катетер, что оказалось совсем не больно.
Я с дрожью ждал, что будет дальше, но тут он достал большое белое полотнище шириной около метра с дыркой посередке сантиметра в три и накрыл меня им с ног до головы. Кажется, я еще никогда не чувствовал себя столь бесстыдно обнаженным. Сестра взяла инструмент, похожий на штангенциркуль, и измерила то, что торчало через эту дырку. А потом наступил анекдотический момент, когда она сказала: «Думаю, нужно взять трубку потоньше. Он не очень большой, правда?»
Как я понимаю, она говорила о ширине мочевыводящего канала и ни о чем другом, но я тем не менее чувствовал себя весьма неловко. Толпу попросили разойтись, и мы остались вдвоем с хирургом. Он вколол местную анестезию, что было совсем не больно, и после этого ввел новый катетер, нисколько меня не потревожив. Это был не первый случай, когда мои страхи оказались беспочвенны.
Большую часть времени я лежал, окуклившись в собственном мирке, не имея возможности много говорить, но слыша все, что происходило вокруг. Я понял: все медсестры (да и врачи тоже) убеждены, что, закрыв глаза, пациент гарантированно отключается. Когда у вас глаза закрыты, о вас будут говорить так, будто вас здесь нет. Это, конечно, можно понять, но все-таки это досаждало. Зато удовлетворяло любопытство – я лежал там час за часом, не спя и не бодрствуя, но слыша все, что говорилось вокруг. В первое же утро один из врачей рассказывал ассистентам о моей операции. Он смачно описывал все неаппетитные подробности, совершенно игнорируя то, что я мог слышать каждое его слово. В мгновение ока мой статус был изменен с положения субъекта на положение объекта.
Раз за разом я отмечал, что слова, сказанные мне в лицо, прямо противоречили тому, что я услышу всего несколько секунд спустя, когда все будут думать, что я сплю. Скажем, санитар сообщает, что я могу просить столько обезболивающего, сколько пожелаю. Но вот я закрываю глаза, и он, обращаясь к напарнику, говорит: «У этого пациента психоз насчет боли, и чем больше давать ему обезболивающего, тем больше он будет требовать».
Конечно же, он был прав. Боль – моя давняя проблема. Слабые боли я чувствую постоянно, а острые – довольно часто, и я ненавижу эти ощущения. Я знаю, что такое власть боли, лишающая тебя силы, знаю, как трудно ей противостоять, насколько она выматывает.
Говорят, выходцы из Нортумберленда способны на стоические подвиги, они несут боль с достоинством, а что я? Жалкий южный неженка, которому не по плечу такие испытания.
Самые тяжелые моменты (это было и в Ньюкасле, и в Нью-Йорке) – когда меняют твое положение в постели. При этом боль пронизывает все тело, как от удара током. Впрочем, с болью дело обстоит так, как и с прочими радостями онкологии. Страх всегда тяжелее, чем реальность, и каждый раз, когда тебе удается его победить, и твое тело, и твой дух обретают новые силы. Я и сейчас ненавижу боль, но уже научился ее терпеть в той мере, в какой это мне и не снилось всего три года назад. Зато теперь несравненно сильнее стало мое сострадание к любому, испытывающему серьезную боль. Вот как меняет людей раковая опухоль.
Медсестры в этом отделении сильные, решительные и упрямые. Все свободное время они болтают между собой, часто затрагивают финансовые вопросы, обсуждая, скажем, скандал с зарплатой Уэйна Руни (эта история тогда была у всех на устах). Мне всегда было ясно, что чрезмерное различие в доходах вносит излишнее напряжение в социальную жизнь. Трудно не испытывать симпатию к этим людям. Эти медсестры отрабатывают двенадцатичасовые смены, выхаживая тяжелобольных. Они все время работают на том пороге, который отделяет жизнь от смерти, и при этом получают какие-то жалкие тридцать три тысячи фунтов в год, а это, извините, вовсе не сто восемьдесят тысяч в неделю.
Короче, днями здесь было не скучно, но вот ночи – те представляли настоящее испытание. Ночью я оставался вообще без какой-либо защиты, зону комфорта нельзя было обеспечить ни снотворным, ни транквилизаторами, ни алкоголем, ни беседами с друзьями или партнерами.
Ночью человек полностью обнажен, ему некуда спрятаться. Из меня торчали три дренажа, трубка для кормления, трубка в носу, кислородная маска на лице и множество других приспособлений. Все тело ныло, и я почти не мог двигаться. Когда наступала ночь, меня укладывали в полусидячее положение, и вот так я сидел до утра, не имея возможности сменить позу. Пару часов удавалось подремать, а остальное время я ждал рассвета, поскольку в 5:30 начинался новый цикл обследований.
Самой тяжелой была первая ночь. Вряд ли мне удалось поспать хотя бы минуту, сердце у меня отчаянно колотилось, а страх в любой момент был готов вылезти изо всех углов. Я боялся, что у меня не хватит ни сил, ни мужества, чтобы пройти через все это.
Эта ночь и последовавшая за ней были особенно тяжки из-за непрерывных галлюцинаций. Даже без морфия мой разум отказывался мне подчиняться. Стоило только закрыть глаза, и внутри головы возникали самые странные и непонятные образы. Они крутились в непрерывном завораживающем вихре, так что с открытыми глазами я чувствовал себя в большей безопасности, чем с закрытыми. Сначала эти картинки были черными, потом постепенно они стали белыми и наконец цветными, но ни на минуту не переставали бередить мою душу. Опереться было не на что.
После того как кончилось действие наркоза, я начал принимать морфий, и стало еще хуже. Я оказался в мире оживших кошмаров, не имея возможности ни позвать на помощь, ни поднять тревогу, ни даже пошевелиться. Моя кровать не хотела стоять на месте, она крутилась, и я видел мир во все новых перспективах, под новыми углами, в новых измерениях.
Всю жизнь я доверял своему разуму, знал, что уж он-то меня не подведет, но тут он вырвался из-под моей власти, почувствовав вкус наркотиков и поддавшись усталости. Через какое-то время я отказался от морфия, считая, что физическая боль лучше, чем умственное расстройство.
После двух дней в реанимации я вернулся в блок 36 и получил койку в отделении для тяжелобольных. Мне казалось, что я вернулся домой. Сестры уже знали меня по имени, и здесь я чувствовал себя в безопасности. Скоро меня включили в общую рутину регулярных процедур.
Сестра будила меня в половине шестого, у меня брали анализы, а потом пересаживали в кресло. В первые несколько дней меня сначала мыли, а потом я сидел, набираясь сил, пока не появлялись Луиза и другие физиотерапевты.
Прошло не так уж много времени, и я уже ходил по коридорам больницы, прямо как в Нью-Йорке. Однако здесь, в отличие от Нью-Йорка, люди улыбались друг другу, шутили – в общем, держали себя в руках, не поддаваясь боли. Здесь обитал поистине британский дух.
После прогулки я сидел на кровати, читая со скоростью где-то страница в час и поджидая гостей. В те первые дни это неизменно была Гейл. Сначала мы с ней безудержно смеялись, ведь быть живым – это было так приятно. Однако спустя некоторое время я стал куда менее привлекательным пациентом. И Гейл все это терпела – святая женщина.
Вечерами я читал и смотрел телевизор, откладывая ночь, насколько это было возможно. Дни тянулись медленно, но все-таки они проходили – один за другим. Зашел Аластер Кемпбелл и привел с собой Брендана Фостера, спортсмена и комментатора с BBC. Брендан – истинный представитель нашего Северо-Востока, великодушный, благородный, добросердечный и гордый своей малой родиной.
Для Аластера одной из целей визита была встреча с Майком Гриффином, а это было очень непросто, если учесть предвзятое отношение Майка к «новым лейбористам», да и вообще к политической суете. Тем не менее к концу вечера ему повезло. В первые минуты они смотрели друг на друга как два медведя в одной берлоге, но слово за слово, и они уже ввязались в полемику по «вопросу о спорте», выливая друг на друга потоки сумбурной и непроверенной информации, касающейся уже не актуальных спортивных событий. За полчаса они удовлетворили свое честолюбие, и дальше беседовали, как близкие друзья. Грейс и Брендан наблюдали эту картину с некоторым недоумением.
Здешние врачи и персонал были выше всяких похвал. Майк заходил ко мне два раза в день: в семь утра, а потом вечером, тоже примерно в семь. Его присутствие успокаивало всех окружающих. У него был изумительный подход к пациентам, ко всем он относился как к равным, с подлинным уважением. Свою больницу он не покидал даже в выходные.
Это приносило огромную пользу пациентам, но его семью вряд ли могло радовать. Майк был явно не из тех, кто всерьез относится к таким вещам, как баланс между работой и отдыхом. Он был одержим – спасением человеческих жизней, благополучием пациентов, стремлением сделать свою клинику лучшей в мире. Он был упрям и с трудом шел на компромиссы. Впрочем, именно это упрямство было основой его выносливости.
Затеяв с Майком какую-либо дискуссию, не надейтесь быстро дойти в ней до конца, и даже завершив ее, вы никогда не будете уверены в своей победе. Вечера напролет мы обсуждали политические и жизненные проблемы.
Сестры и нянечки здесь были просто образцом для подражания. Ни одну из них нельзя было упрекнуть в непрофессионализме или равнодушии к подопечным. На первый взгляд они выглядели обезличенно в одинаковой униформе и с одинаковым местным говором, но постепенно в них проявлялись индивидуальные черты, проступали сильные, хотя иной раз и своеобразные личности. Сначала они относились ко мне с подозрением, но постепенно у нас сложились душевные отношения. За время двенадцатичасовой смены успеваешь присмотреться ко всем, кто вокруг тебя, да и окружающие видят тебя как на ладони. На каждую смену они приходили полные сил, но завершали ее вымотанные до предела. К концу дня напряжение и груз ответственности давали о себе знать. Двенадцать часов на ногах – это долго.
Работали они замечательно. Трудно себе представить лучший уход. Это была дружная команда во всех отношениях, они с полуслова понимали друг друга, безоговорочно подчинялись Майку, хотя при необходимости всегда были готовы взять на себя долю ответственности. Наблюдать их работу было одно удовольствие.
Со временем Гейл сменила моя дочь Джорджия. Она полюбила Ньюкасл, больницу и Майка, видя в этой жизни воплощение своих идеалов, чего-то такого, во что можно верить. Она чувствовала себя здесь как дома.
Неделя тащилась к концу, но легче мне не становилось. Было не то чтобы невыносимо, но все-таки очень тяжело. Я выживал с трудом, как, впрочем, и все вокруг. Конечно же, и эта последняя операция, и все последовавшие за ней муки подвели меня ближе к миру боли и смерти. Я чувствовал, что в критический момент моя вера не поможет мне преодолеть этот порог. Вера меня покинула, и я, в свою очередь, покинул ее. Приходил священник, которого направила ко мне церковь, где я был прихожанином. Как назло, он появился именно в тот момент, когда мне было особенно больно и тяжело. Мы побеседовали о вере, боли и сомнении, и я начал понимать, что моя личная вера переселилась в новое место в душе, туда, где есть еще простор для скепсиса и сомнений, в тот уголок, который больше соответствует моей личности.
Через десять дней я перебрался в отдельную комнату и тут почувствовал, что просто сдаюсь перед усталостью. Алистер Гасконь, отвечающий за интенсивную терапию и одновременно за отделение инфекционных заболеваний, повстречал меня в коридоре и сразу увидел, что у меня не все в порядке.
Алистер – это еще один из гигантов духа, подвизающихся под эгидой государственного здравоохранения. Рассыпая вокруг грубые шутки, он был незаменим, если требовалось поднять дух у серьезно больных пациентов. В сравнении с Майком его отличала большая язвительность, желчность, но он очень легко устанавливал с людьми доверительные отношения. Как и Майк, он начинал работу ни свет ни заря, работал до позднего вечера и не признавал выходных. В палаты он заходил бесшумно, почти незаметно, и обладал каким-то шестым чувством, позволявшим угадывать состояние пациента.
Он сразу заподозрил у меня какую-то инфекцию и в субботу собственноручно усадил в каталку, чтобы отвезти в рентгеновский кабинет. Там мной занимались целый день, и только после обеда он сказал, что картина ему ясна и нужно поставить дренаж.
Это значило, что с помощью просвечивающего аппарата следовало нащупать дорожку от моей спины к легким и затем вставить туда трубку, через которую должна была вытекать инфицированная жидкость. Звучало это весьма угрожающе, но на самом деле оказалось не так уж и страшно, тем более что рядом была Грейс, не выпуская мою руку из своей. В конце концов дренаж встал на место, и через него вытекло целых два литра болезнетворной жидкости. Это продолжалось сутки или двое. Инфекционный пожар разгорается за считанные часы. Через несколько дней он грозил бы мне очень серьезными проблемами. В моем случае воспаление было притушено солидными дозами антибиотиков, и этого эффекта должно было хватить на четыре недели.
Вмешательство Алистера поразило меня, как чудо. Он продемонстрировал буквально мистический дар видения, что у человека внутри. Потом он взял за обычай навещать меня каждый день, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы беседовали о наших дочерях, живущих в Ньюкасле, и о долгих прогулках вдоль побережья Нортумберленда, которые он позволял себе в компании своей собаки. Это оказался скромный человек, склонный к рефлексии, но его сдержанная манера не умаляла той огромной роли, которую он играл в больнице.
Ровно через три недели в полном соответствии с планами Майка я покинул больницу и переехал на квартиру в Ньюкасле, где мне следовало прожить еще месяц. Начались снегопады, на улицах снег лежал толстым покрывалом, ходить стало трудно, но виды вокруг были просто прекрасны. Что и говорить, на Рождество Ньюкасл – не самое худшее место.
Ближе к концу декабря состоялась коллегия по вопросу моей гистологии. На ней зачитали отчет об исследовании тканей, вырезанных во время операции. На базе этого отчета можно было уже говорить о том, что меня ждет дальше.
С одной стороны, я смотрел на перспективы с определенным оптимизмом. Я верил, что, пройдя через все эти муки, заслуживаю выздоровления. Кроме того, я не понимал, как в ходе предоперационных обследований они могли бы пропустить какие-то онкологические очаги. Но, с другой стороны, беспокойство меня не отпускало. В медицине, как и в политике, хорошие новости распространяются очень быстро. Я был уверен, что гистологический отчет давно уже лежит у кого-то на столе, но до меня не дошло никаких сообщений, что там все в порядке.
Впрочем, мы с Гейл были уже настолько вымотаны, что не было сил испытывать какие-то новые эмоции. Последние два месяца дались нам очень тяжело, и это был чуть ли не двадцатый раз, когда нас ждали на со вещании, где должен был решаться вопрос жизни и смерти. Мы просто выдохлись.
Мы приехали в больницу, и прямо на пороге я повстречал Сару, внештатного консультанта, которая помогала Майку. Она держалась приветливо, но как-то отчужденно, и я увидел в этом дурное предзнаменование. Мы сидели в приемной, начало совещания задерживалось на час, что тоже можно было понимать как определенный намек.
Вошли Майк и Клэр, старшая медсестра, с которой я уже успел подружиться. Майк начал с абстрактных рассуждений о моем здоровье: как я себя чувствовал, какие были симптомы. Эти речи тоже не предвещали ничего доброго. При таких встречах хорошие новости выкладывают сразу, а не приберегают к концу. И тон у Майка был довольно формальный, без тех искр, к которым я уже привык.
Потом он сказал: «Давайте перейдем к гистологии». И продолжил: границы резекции в норме, хотя и несколько уплотнены, опухоль удалена, однако рак распространился шире, чем ожидалось, пустил более глубокие корни. Семь из двадцати трех вырезанных лимфатических узлов оказались поражены раком.
Семь.
Я почувствовал дурноту. Я знал, что это очень, очень плохо.
Он сказал, что весьма высока вероятность рецидива. Я спросил, каковы мои шансы. Все те же 25 процентов? Нет, сказал он, скорее процентов 20. При этом он как-то мямлил, и видно было, что он сам не верит своим словам. Если провести курс облучения, это добавит еще 10–15 процентов вероятности, но и это было сказано без особой убежденности.
Я взглянул ему в глаза. «Рак вернется?» – спросил я. «Да, – ответил он. – Скорее всего, да».
В комнате повисло мрачное молчание. Майк не выражал никакой надежды, Клэр глядела на шефа, а Гейл была просто контужена, как взрывом снаряда. Я попытался как-то разрядить обстановку, но безуспешно. Мы вышли.
«Все получилось не так хорошо, как я думал», – сказал я. «Да, не лучшим образом», – согласилась Гейл. Мы шли по улице, понимая, что наше будущее еще раз изменилось.
Я честно сказал девочкам, что прогноз совсем безрадостный.
Через несколько дней уехала Гейл. Приехала Джорджия, и мы отправились на прощальную аудиенцию к Майку. Наше настроение уже почти пришло в норму, и мы выглядели вполне жизнерадостными. Майк рассказал Джорджии неприукрашенную правду о моем состоянии, и она восприняла это с достоинством. Частично ей помогло в этом позитивное настроение, которое мы тщательно поддерживали друг у друга.
Пару дней спустя мы с Джорджией пошли на завтрак с кофе, который Майк и Клэр организовывают каждый год. Мы ожидали, что где-то в служебном помещении соберется человек двадцать коллег, чтобы поболтать на свои профессиональные темы. А пришло восемь сотен народу, полностью заполнивших городской общественный центр.
Восемьсот человек, чья жизнь так или иначе пересеклась с Майком и его сотрудниками.
Рекордсмен-долгожитель в этой компании пережил операцию двадцать лет назад, когда эта клиника только начинала свою работу. Благодаря этому утреннику Майк имел возможность видеть плоды своей жизни. Знал бы я хоть одного политика, который мог бы предъявить столь наглядные результаты своих трудов.
Мы сидели за столом в компании переживших рак пациентов из Саут-Шилдса. Это были дружелюбные и открытые люди, не признающие пустой болтовни. Они сразу же взяли меня в оборот. Мы говорили о значении рака в их жизни. А значил он для них примерно то же, что и для меня. Это были разговоры о том, как пережить ночные страхи, как много значит окружающее общество и поддержка близких, как важно сохранять оптимизм и веру в добро. За всеми этими словами стояло признание, что да, рак– это жестокая штука, но в его власти перестроить жизнь человека. И эти люди подтверждали, что их жизнь полностью изменилась именно благодаря болезни.
В Саут-Шилдсе они организовали группу поддержки больных раком пищевода. Эта группа раз в неделю собиралась в пивной, обсуждая весьма обширную программу, в которую включались все новые люди, пережившие рак. Они пригласили меня на свои встречи, и я пообещал когда-нибудь обязательно прийти. Мы жили очень далеко друг от друга, но при этом разделяли общие представления о том, что это за болезнь и как с ней бороться. Я ощутил себя участником какого-то общего похода.
Рождество мы провели в снегу, за городом. Были только мы с женой и наши дети. Скрывать было уже нечего, каждый из нас знал о ситуации без утаек. Все испытывали напряженность, но поддерживали друг друга.
Джорджия с трудом восприняла мой первый диагноз и старалась не обсуждать со мной мою болезнь. Она хотела счастья, хотела приносить пользу и, похоже, чувствовала, что любые грустные нотки тут же выдадут ее тревогу. Это была слишком глубокая проблема, чтобы выразить ее словами. Однако в Ньюкасле ее душа вырвалась на свободу. Теперь она смирилась с тем, что у меня рак, с реальной ситуацией, могла смотреть ей в лицо и говорить о ней открытым текстом.
С Грейс было по-другому. Она могла говорить о моей болезни, но ее устраивали только факты, а не всяческое бла-бла-бла. Она рассуждала о данных анализов, о вероятностях в процентах, о реально ожидаемом сроке жизни. Будучи сильна в черном юморе, она могла свободно шутить на эту тему. Она с самого начала говорила обо всем совершенно открыто. С другой стороны, я думаю, мой рецидив ее тоже несколько огорошил. Она искренне не допускала, что такое может произойти.
Я надеялся и верил, что мои отношения с дочерьми с каждым годом становятся более глубокими. И мы молча решили сами построить наше будущее, сжать десять или сколько еще там лет, на которые я мог бы рассчитывать, в один год, который отпущен мне судьбой.
Дочери выпотрошили меня до самого дна. Джорджия решила узнать все, что я думаю. К каким выводам я пришел? На каких ценностях остановился? Почему я верю в то, во что верю? А Грейс требовала от меня четких практических советов, которые можно было бы тут же употребить в дело. В какой-то момент она захотела, чтобы я расписал все случайности, которые могли бы свалиться на ее голову, и обеспечил каждый такой случай удовлетворительной рекомендацией. Сознавая, что скоро ей придется со мной расстаться, она решила получить от меня руководство на всю оставшуюся жизнь.
Впрочем, с дочерьми все оказалось проще, чем могло быть. В конце концов, это естественно – когда дети переживают родителей. Так что и прощание должно быть вполне в природе вещей.
Другое дело – Гейл. Она уже не нуждалась в напряженной жизни, стремящейся к какой-то высокой цели. Она хотела только тишины и покоя. Не движения в будущее, а продления настоящего. Она всегда мечтала о будущем, которое было бы свободно от всяких трудов и обязанностей. Чтобы мы просто слонялись по свету и потихоньку старели, идя рука об руку.
Мы так давно знали друг друга, что создали для себя общий мирок. После смерти мужа Кэтрин Уайтхорн написала: «Брак – это вода, в которой плаваешь, страна, в которой живешь, привычки и принципы, которые разделяешь». Казалось бы, что может быть естественнее, чем под конец жизни вместе заниматься какой-нибудь ерундой! Но вот сложилось так, что я даже этого не могу гарантировать. Этот факт трудно перенести, и со временем не становится легче.
В Лондоне мы навестили Дэвида Каннингема. Гейл принесла документ, который получила на прощание от Майка. Она долго не хотела мне его показывать, но я добился своего и прочитал следующее резюме: «Перспективы Филипа Гоулда крайне неутешительные… Пациент сознает, что его шансы на выздоровление очень низки». Одно дело – услышать эти слова, а другое – прочитать их черным по белому. У меня по спине пробежал холодок.
Мы вошли к Дэвиду. Он никогда не терял оптимизма, но при этом не опускался до обмана. Он сказал, что следующим шагом должна быть совмещенная химио– и радиотерапия. Проводить ее нужно ежедневно, не считая выходных. В дальнейшем мы проанализируем диагноз в отношении ДНК, чтобы оценить, возможно ли в случае следующего рецидива какое-либо экспериментальное лечение.
Он снова заронил какую-то надежду, но мне нужна была передышка.
Я не боялся сеансов радиотерапии, но теперь процесс питания снова осложнился, а глотать становилось все труднее. Дэвид направил меня к консультанту, которого звали Жервуа Андреев. Он специализировался на симптомах, сопровождающих лучевую терапию после операции. Это был человек блестящего интеллекта, настоящий бриллиант, каких немало скрывает Марсден. Он прописал целую коллекцию новых лекарств, и буквально через несколько дней мне стало явно легче. Правда, позвонил Майк и сказал, что я не смогу пройти этот курс лечения без использования трубки для искусственного питания, так как где-то на середине курса есть все равно будет невозможно.
Итак, на следующий день я вернулся в Ньюкасл, чтобы мне вставили трубку для искусственного питания. Я вновь повидался со всем тамошним коллективом, и мне показалось, что они были искренне рады видеть меня. После операции зашел Майк, и мы поговорили о суровой реальности моих перспектив. Майк высказался за то, что всегда следует говорить пациенту горькую правду и одновременно уведомлять о реальной ситуации всех членов семьи. Так можно предотвратить обиды и необоснованные надежды.
Я сказал, что правду следует говорить и по другим, более глубоким причинам. Зная о близкой смерти, человек может более разумно употребить оставшееся время, поменять правила своей жизни. В самом деле, знание о том, сколько тебе отпущено времени, можно понимать как особую привилегию, которая дается отнюдь не каждому. Это ведь намного лучше, чем неожиданная смерть, к которой человек не успел подготовиться.
Лучевая терапия мне не понравилась – к большой досаде моего консультанта Дайаны Тейт. Она повторяла, что сейчас идет Год лучевой терапии и хотя бы поэтому стоило бы относиться к ней с большим доверием. Она все делала блестяще, к ее персоналу у меня тоже нет никаких претензий, и все равно после облучения (как и некоторых других процедур) я совсем упал духом.
Когда я впервые пришел в радиотерапевтическое отделение, я удивился той мрачной атмосфере, которая царила среди ожидающих пациентов. Она радикально отличалась от настроения больных, готовящихся к операции или сеансу химиотерапии. И дело не в том, что облучение как-то особенно неприятно или болезненно. Вовсе нет. Просто оно притупляет и выхолащивает человеческие чувства. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной встают призраки тех переживаний.
Сама процедура очень проста. Ложишься на койку под огромный поворотный агрегат, на борту которого, как на военном корабле, начертано его личное имя. На моем было написано «Джофорд». Машина, пыхтя, поворачивается из стороны в сторону и посылает лучи в мое тело под четырьмя разными углами. Нет боли, не чувствуешь вообще ничего, если не считать жужжания самого агрегата, когда он посылает рентгеновские лучи[9]. Единственное неудобство – нужно лежать, вытянувшись и закинув руки за голову. Я слушал музыку через iPod, и время проходило незаметно. Однако никому эти процедуры не нравились, а кое-кто переносил их довольно болезненно.
Один раз я увидел человека, который стоял в нелепой позе и не мог сесть – просто из-за боли. Другой у меня на глазах потерял сознание в душевой. Третий плакал, подавляя рыдания. Сначала я думал, что причиной всему было состояние их здоровья, а не облучение, но со временем начал кое-что понимать.
Впрочем, многим лучевая терапия дается гораздо легче, и, возможно, я как раз оказался в категории таких счастливчиков. Но даже те, кому было тяжело, обычно не меняли своего решения. День за днем они приходили на эти процедуры, терпели боль, хотя многие из них, это было видно, неуклонно двигались к своему концу.
Суть лучевой терапии состоит в том, чтобы вычистить непосредственно ту зону, которая подверглась операции, и заодно окружающие ткани, в которых были обнаружены пораженные лимфатические узлы. Задача облучения – пресечь возможные локализованные рецидивы. Проблема заключалась в том, что после перенесенной мной операции оставшиеся лоскуты пищевода и желудка находились в зоне, которая соседствовала с легкими и сердцем, так что найти к ним безопасный путь было непростой задачей. Весь удар жесткого излучения должен был пройти именно через зону, в которой велась операция.
Уже после первого дня я почувствовал боль в этом месте, и она начала постепенно разрастаться в стороны. У меня развился ужасный кашель, но потом он прошел, и следующие недели оказались не так уж и тяжелы. Но вот в последнюю пару недель боль снова обострилась и стала сопровождаться постоянной тошнотой, но не от еды, поскольку я уже ничего не ел, а от слизи, которая образовалась из-за хронического воспаления. Это сочетание боли и тошноты продолжалось несколько дней.
Итак, я занялся привычным делом – нужно было как-то со скрипом двигаться вперед. Четыре раза в день я принимал по целому блюдцу таблеток, включая и препараты химиотерапии. Каждый прием растягивался у меня на целый час. В таких ситуациях рак становится испытанием на выживание, которое тянется минута за минутой, и не остается ничего, кроме желания все это преодолеть или найти хоть какую-то возможность расслабиться.
А в придачу ко всему этому стоит вспомнить мрачную эпопею с трубкой для искусственного кормления. Она была мне вставлена прямо в желудок, а точнее, в кишечник. Для того чтобы получить очередную дозу питания, я каждый вечер подключал ее к насосику и закачивал полтора литра сладкой густой жидкости, которая называлась моей пищей.
Гейл с ужасом смотрела на все это. Она возненавидела звук этого насосика, запах жидкости и сам факт превращения нашего частного жилого пространства – спальни – в процедурную. Но больше всего она ненавидела трубку, которая, как пластиковый угорь, выходила у меня откуда-то из желудка и была для меня как спасательный трос. Гейл была уверена, что рано или поздно я вытащу ее наружу и с этого момента не смогу получать питание.
И в самом деле, была пара случаев, когда я нечаянно выдергивал трубку, но классный хирург оба раза вставлял ее на место. Один раз она даже лопнула, залив дурно пахнущим киселем футболку, джинсы и пол. В кухне воцарилось неловкое молчание, а подо мной растекалась лужа. Это была неприятная минута. Что ж, я просто принял это и продолжал двигаться дальше.
Рак действительно делает вас сильнее.
Лучевая терапия закончилась, и я явился на прием к Дэвиду Каннингему, чтобы обсудить дальнейшие процедуры. Он, как всегда, был позитивно настроен, сказал, что дела идут так, как и должны идти в нашем долгом путешествии, начавшемся с клочка бумаги, где семь месяцев назад он набросал схему будущего лечения. Пока что все происходило в полном соответствии с этим планом.
Теперь мы заглянули в будущее и запланировали огромный комплекс анализов, которые следовало провести: ДНК, генетика, стволовые клетки и так далее. Теперь наша цель состояла не в том, чтобы предотвратить рецидивы, а в том, чтобы эффективно с ними бороться, если они все-таки случатся.
Следующую томограмму предполагалось сделать в начале июня, а до него оставалась еще целая вечность. Я расслабился, перестал напрягаться, почти ничего не делал – короче, решил на сей раз совершенно по-другому относиться к жизни.
Пришел день томографии. Мы с Гейл были все на нервах, беззащитные перед страхами, которые росли с каждым днем. Сразу после сканирования Гейл мне позвонила, страстно требуя, чтобы я сказал, каков результат. Я ответил, что пока еще не имею представления, но в этот самый момент позвонил Каз и сообщил, что все в порядке. И мне показалось, что, невзирая на все мои расчеты и прикидки, у меня все-таки остался какой-то шанс выжить. По крайней мере, на следующие шесть месяцев до следующей томографии мы могли быть свободны.
Я позвонил Гейл, у нее перехватило дыхание. Это было почти неправдоподобно – неужели для нас еще где-то остались хорошие новости! И было так страшно, что вдруг все эти добрые новости прямо у нас в руках превратятся в новости злые. Однако конкретно на данный момент все было в порядке.
Мы отправились к Дэвиду Каннингему, тот сказал, что скан у меня просто отличный, что это существенный шаг вперед и что мои перспективы немножко улучшились. Разумеется, меня все равно пока еще нельзя считать баловнем судьбы, но я так много уже и не требовал. Мне дали шанс, и это было все, что нужно. Дверь, которая только что была наглухо закрыта, снова немножечко приоткрылась. Жизнь, долгая ли, короткая ли, опять легла передо мной.
Вот мы и пришли к этому моменту, и дорога сюда пролегала на разных уровнях. Пройдя этот путь, я изменился во многих отношениях, и надеюсь, что к лучшему. Теперь я совершенно по-другому смотрел на себя, свою болезнь, занятия политикой, на государственное здравоохранение, на семью и друзей, а самое главное – на мою жену, к которой я стал относиться совсем не так, как раньше.
Изрядная доля этого пути представляла собой мое личное дело, но какая-то его часть имела отношение к политике. Не в партийном смысле, а в том плане, что я прошел через несколько систем здравоохранения, реализованных в разных странах и на основе различных ценностей. Мой маршрут начался в частной клинике и у частного онколога на Харли-стрит, затем я попал в построенную на частные пожертвования нью-йоркскую больницу, потом вернулся снова в Великобританию в Ройял Марсден и наконец очутился в ньюкаслской больнице Ройял Виктория (ну и плюс еще регулярные посещения больницы при Университетском колледже в Лондоне).
На этом пути я переговорил с сотнями врачей, медсестер и пациентов. Между увиденными мной системами существуют реальные различия. Качество лечения в американской больнице Слоуна – Кеттеринга не имеет себе равных, но признаки социального неравенства там бросались в глаза, и это невзирая на похвальные усилия администрации расширить доступ к медицинским услугам.
В британской частной системе качество обслуживания выше всяких похвал, но доступ туда открыт тоже не для всех, и, пребывая в частных учреждениях, трудно отвязаться от мысли, что реальные силы британский частный сектор в большой степени черпает из государственной системы здравоохранения.
И Марсден, и Ройял Виктория относятся к числу государственных учреждений, но между ними есть существенная разница. Марсден довольно большую долю прибыли получает от частных пациентов. Больница Ньюкасла (или, по крайней мере, Северная клиника лечения опухолей пищевода и желудка) – это учреждение, полностью подчиненное министерству здравоохранения, если не считать одного смешного исключения (это про меня, хотя и в моем случае Майк старался, чтобы вся моя эпопея оплачивалась из страхового фонда).
Эти различия играют немалую роль. В Марсдене имеется немало своих технических подразделений (таких, как некоторые службы лучевой терапии), но ряд из них, как отделение химиотерапии, – частные, и пациенты госсистемы здравоохранения вынуждены прибегать к услугам других отделов. Невзирая на все это, здесь тон задают ценности NHS, и в целом эту больницу следует считать по сути государственной. На ее примере мы видим, как могут сотрудничать частный и государственный сектора. В Северной клинике лечения опухолей пищевода и желудка все службы сведены воедино, все пациенты обслуживаются как клиенты государства. В результате здесь существует установка на профессиональное совершенство и социальное равенство.
Итак, каковы же результаты сравнения? Лондонская клиника обеспечивает комфорт, быстрое обслуживание и отсутствие очередей. Но примерно то же можно увидеть и в Марсдене – все так же оперативно, комфортабельно и так же мало очередей. А главное, вас сопровождает уверенность, что вы под крылом системы государственного здравоохранения, где служат сотни и тысячи специалистов мирового класса. С другой стороны, в частной онкологии тоже хорошо работают, а Морис Слевин – один из лучших специалистов в мире. Но и в Марсдене вам предложат все необходимые удобства и окружат заботой, а участвовавший в моем лечении консультант был автором методики по лечению рака пищевода, которой пользуются во всем мире.
И наконец, хирургия. Никто не будет спорить, что Центр Слоуна – Кеттеринга – непревзойденное учреждение, но если говорить о моем случае, то есть о пищеводе, то клиника в Ньюкасле сработала лучше. Уход был ласковым и заботливым, палаты – уютнее, физиотерапия и хирургия – на самом высшем уровне. Я ни в коем случае не хотел бы принизить американскую больницу, которая по праву пользуется известностью, но не премину отметить, сколь хорошо было в Ньюкасле.
Я совсем не хочу доказать, что частное здравоохранение – это плохо, а государственное – это всегда хорошо. Хотя бы потому, что сам так не думаю. Точно так же я не буду утверждать, что в частном заведении не могут процветать принципы социального гуманизма. Конечно, могут. У меня нет претензий к лечению и в частных, и в государственных лечебницах, и в заведениях смешанного типа. Но лучше всего мне было в государственных больницах, хотя иной раз я там выступал как частный клиент.
Государственное здравоохранение отнюдь не совершенно, но в своих лучших проявлениях оно может работать очень хорошо. Я начал свое путешествие, будучи полон скепсиса по отношению к государственной медицине, а к финишу пришел ее рьяным поклонником. Это, конечно, не аргумент против ее реформ, скорее напротив. В конце концов, именно реформы (и финансирование) привели к созданию современной британской государственной медицины. Здравоохранение постоянно сталкивается с новыми вызовами, так что должно быстро адаптироваться к меняющейся жизни.
В современном мире процветание всех институтов возможно только в том случае, если они непрерывно изменяются, и госмедицина здесь не исключение. Но, как я увидел собственными глазами с точки зрения пациента, эта структура отнюдь не сопротивляется изменениям. Борьба против рака почти ежедневно подвергает пересмотру те основы, которым практикующие медики следовали на уровне инстинктов.
Обсуждать можно только вопрос, какие изменения нам необходимы. Если бы я отвечал за реформирование общественного здравоохранения, я хотел бы добиться трех вещей. Во-первых, система и действующие в ней люди должны быть наделены той стойкостью, которая позволит им без потерь пройти через ожидаемые перемены. Во-вторых, работники должны быть сами вовлечены в процесс, нацеленный на перемены. И, наконец, в-третьих, движущая сила этой службы, а именно ее преданность общественному благу, ни на один миг не должна ставиться под удар. Вот самые важные пункты в грядущих реформах.
Впрочем, политика политикой, но мой путь по онкологическому маршруту – это прежде всего мое личное приключение, и именно оно имеет для меня первостепенную важность. Я узнал, что страх можно победить, и если он побежден, в человеке раскрываются удивительные способности. Я узнал, что мы сильнее, чем обычно думаем о себе, и когда преодолеваем то, что кажется непреодолимым, становимся еще сильнее. Я узнал, что сила человеческого содружества не имеет границ и наделяет нас таким мужеством, какого мы в себе и не подозревали. Я узнал, что оптимизм и надежда помогают преодолеть ужас и мрак. Я узнал, что человеческий дух более могуществен и отважен, чем можно было бы предположить. Я узнал, что, хотя рак – ужасное заболевание, он способен нас полностью преобразить.
Вы, может, будете смеяться, но я и теперь верю в эти свои открытия. И это не пустые сантименты. Я знаю, что рак – жестокая, безжалостная болезнь, которая косит детей, молодежь, матерей и отцов, жен и мужей, и совершает она свои злодеяния, не оглядываясь на наши чувства. Я знаю, что жестокость этой болезни страшнее всего, когда пациент одинок, лишен надежды и защиты.
Я не превозношу рак, а пытаюсь ему противостоять. Я хочу, чтобы каждый читающий эти слова, если он почувствовал у себя симптомы того, что может оказаться раком пищевода, и опасается пройти обследование, прямо завтра обратился к врачу. Я хочу, чтобы каждый, у кого есть крупные свободные средства, направил их в благотворительные службы, список которых приведен в конце этой книги. Я хочу, чтобы рак был побежден.
Но пока рак – это повседневная реальность, я хочу, чтобы люди знали: как бы он ни был страшен, у них есть силы, чтобы ему противостоять и выйти из этого сражения с окрепшей волей. Рак способен одновременно вести вас и к разрушению, и к перерождению. Как это происходит, я и сам понимаю не до конца. Рак – это особое, мистическое заболевание, которое, судя по всему, живет и дышит в самых темных закоулках нашей души, именно там, где кроются наши страхи. Есть и другие болезни, не менее жестокие и опасные, но именно у рака есть особая власть толкать нас к страху и отчаянию. А с другой стороны, именно рак может привести нас к перерождению, которое Лэнс Армстронг[10] описал такими словами: «По правде говоря, рак оказался самым лучшим, что случилось в моей жизни. Уж не знаю, почему я подцепил эту болезнь, но она свершала для меня чудеса, и я не хочу с ней расставаться. Зачем мне менять, хотя бы на один день, то, что стало для моей жизни самым важным и самым продуктивным?»
Я не стал бы, как Армстронг, так решительно цепляться за свою болезнь, но я и не жалею о ней. И, разумеется, я не хотел бы умереть той личностью, которой был до своего перерождения. Действительно, так или иначе, но на втором этапе болезни я ощутил тот смысл и то предназначение, о которых раньше и не подозревал.
Несколько дней назад меня навестил Пит Джонс, мой самый близкий друг еще со времен университета. Его матери исполнилось восемьдесят шесть, и в этот самый день она ложилась на такую же операцию, через которую прошел я. Ее ожидала полная резекция пищевода. За пару дней до этого я говорил с ней по телефону. Она, конечно же, боялась, но была исполнена решимости. Ее мужество меня покорило.
Из разговора с Питом я понял, что он и сам переродился благодаря переживаниям за мать и беседам со мной. Он тоже увидел могущество рака и те благотворные перемены, к которым он может привести. Пит увидел своими глазами, как его мать выпрямилась во весь рост, как она исполнилась мужества и стала дарить любовь. На его глазах распустился цветок животворной силы человеческого сообщества.
Не то чтобы он стал сильно религиозным, но он открыл для себя силу человеческого духа и его способность бороться с бедствиями и побеждать их. Он завис где-то на полдороге между человеком и Богом, между верой и скепсисом, но уже не сомневался, что у всего этого есть какая-то цель.
Когда я оглядываюсь на то, что произошло со мной, мне трудно не видеть, что весь мой путь через эту цепочку неожиданных и сверхъестественных событий был подчинен какой-то цели, исполнен единого смысла.
Это путешествие вело меня из Лондона в Нью-Йорк, потом в Ньюкасл, потом обратно в Лондон, через все эти испытания страхом и болью, которые, как мне казалось, у меня не было сил выдержать. Уже на следующем препятствии я могу вылететь из седла, но до сего момента весь мой путь был для меня вдохновляющим и плодотворным, и даже будь моя воля, я вряд ли осмелился бы изменить в нем хоть один шаг.
Это моя жизнь – вот что открылось мне. Делайте все, что можно, чтобы избежать рака, но, если вы уже попались, знайте: у вас еще есть силы, чтобы с ним поговорить.
Рак – мистическая болезнь, но есть нечто более сильное, чем мистика.
Июньские результаты обследования вызвали резонанс, не соразмерный их значению. Еще бы! Они породили хоть какую-то надежду на будущее. У нас в этом отношении не было никаких иллюзий – ведь мы знали, что рак вернется. Однако мы верили, что так или иначе, но отвоевали островок эмоционального равновесия протяженностью от июня до самого декабря, наш дом-крепость на Планете Рака. А в декабре придет время следующего цикла анализов.
Итак, мы взяли тайм-аут. Гейл потребовала настоящего праздника – итальянского солнца, голубых небес и красивых отелей. Ей хотелось туда, где не надо работать, где нет медицинских обследований и где будет достаточно солнца – после нашего убогого английского лета, которым мы были сыты по горло. Ее план был прост – чилаут[11] в каком-нибудь красивом месте.
Итак, в субботу 30 июля мы вылетели из Гатвика в Неаполь. Оттуда двинулись на юг, в Позитано, что на Амальфийском побережье. Там мы надеялись отыскать тихое, уединенное местечко между морем и небесами. Гейл имела в виду прекрасное Ле Сиренусе, с видом на деревушку и на поблескивающие бирюзовые воды бухты. Нам выпал отпуск, и она не собиралась растратить его впустую.
Так мы и поступили. День проходил за днем, я много ел, а один раз даже решился поплавать. Гейл сидела рядом с бассейном и читала книжки. Иной раз мы выбирались в деревушку на получасовую прогулку. Вечерами выходили к ужину, и я наворачивал, сколько позволяли силы.
Но тем временем действовали и другие течения. Я исполнился решимости записать все, что, как мне казалось, я узнал, все, в чем убедился в результате моих похождений.
Я написал большой цикл статей для «The Times», рассказав в них о реалиях онкологического заболевания (в несколько измененном виде вы прочитали их в первой части этой книги). Статьи были приняты очень доброжелательно, и, хотя я писал их в большой спешке, думаю, они сделали свое дело. Опираясь на этот успех, я решил продолжить мое повествование об онкологической одиссее.
Но теперь перед нами встала новая проблема – она возвышалась, как огромная черная туча, висящая над летним морем и заглядывающая к нам в окно.
Я согласился подновить свой политический трактат «Революция без конца». Предполагалось, что дополнения составят где-то страниц двадцать, но я расписался на все сто сорок, а это подразумевало уже совершенно другой расход и времени, и оставшихся сил.
И тут я совершил непростительную ошибку – позволил работе над книгой вмешаться в распорядок нашего праздника. Я сидел в комнате, яростно стуча по клавишам, а Гейл в одиночестве лежала у бассейна. То, что по ее планам должно было стать чудесным мирным полетом на облаке счастья, я разрушил своей собственной рукой – лишь в угоду своему неутолимому желанию сразу записывать все, что узнал.
В результате болезни я стал другим человеком, но тут вдруг наружу вылезло мое прежнее «я», пытаясь рядиться в новые одежды. В течение этих счастливых дней я непрерывно стремился «ловить момент», купаться в розовых ароматах. Когда мы с Гейл оказывались вместе (а это было большую часть времени), между нами царила просто сказочная близость и нежность. Она все время пыталась как-то меня накормить. Я не мог удержать в себе подобающего количества пищи и по этой причине стал весьма капризным гурманом, но одно блюдо, предлагавшееся в нашем отеле, мне нравилось всегда и безоговорочно. Это была клубника в шоколаде. Гейл заказывала тарелку за тарелкой этого лакомства и расставляла их по комнате в надежде, что я соблазнюсь как-нибудь незаметно для себя.
И тем не менее неувязка между сроками сдачи книги и моей преданностью любимой супруге породила одно из самых горьких чувств, какие я когда-либо испытывал. Я разрывался между опасностью нарушить контракт и не меньшим риском разрушить семейную гармонию.
Через неделю мы двинулись на север. Поезд шел из Неаполя через Рим, а направлялись мы в прекрасный прибрежный городок Орбетелло. Это было долгое путешествие, больше четырех часов, и я никак не мог устроиться поудобнее, что очень огорчало Гейл. Она чувствовала, что у меня снова что-то не в порядке. Мы приехали поздно вечером, и я позволил жене в одиночку тащить наши чемоданы по длинному пустому перрону, а потом на другую сторону путей.
Наш новый приют, отель «Il Pelikano», был столь же гостеприимен, как и первый, но теперь уже становилось ясно, что, хотя я ел больше, чем прежде, мой вес все равно продолжал падать. Гейл заметила, что я стал выглядеть сильно похудевшим.
После еды меня опять начали преследовать отчаянные боли, я выташнивал больше, чем мог съесть. Прием пищи снова стал испытанием моего терпения.
Когда через неделю мы вернулись домой, я все еще чувствовал, что, невзирая на все неприятности, наша поездка удалась. Но, как только мы приехали в Лондон, Гейл настояла на том, чтобы позвонить в Марсден и рассказать о моих проблемах. «Приезжайте как можно скорее», – услышал я на том конце. И все мытарства начались по новому кругу.
Правда, на этот раз мы, так или иначе, но уже уверенно преодолевали трудности, которые всего пару лет назад казались совершенно невыносимыми. В Марсдене сразу же провели комплекс анализов, первые результаты выглядели вполне нормальными. Это меня не успокоило, но немного обнадежило.
Через несколько дней я зашел к моему издателю Тиму Уайтингу в офис издательства «Little, Brown» на набережной Виктории. Мне нужно было обсудить с Тимом и моим редактором Зои Галлен окончательный вариант обновленной книги «Революция без конца». Эта работа, которая изрядно помотала мне нервы, наконец-то подошла к концу.
Зазвонил телефон. Звонили из Марсдена. Тим вежливо отвел меня в маленькую пустую комнатку, чтобы я мог спокойно поговорить.
Онкологический маркер в анализе крови подскочил с 5 до 58 процентов.
Я понял, что игра подошла к концу.
Я позвонил Гейл, и она согласилась со мной. Даже не просто согласилась. Она уже знала.
Она сказала, что все последнее время ей было ясно: мое упорство в работе над политическим трактатом и первыми главами новой книги проистекало из желания завершить перед смертью все неотложные дела. Я с ней не спорил – у меня тоже все эти недели было чувство, что в тот момент, когда я закончу работу над второй книгой, цель моей жизни будет достигнута и начнется ее последний акт.
В Марсдене меня послали на срочную томографию, и сам тон этой рекомендации говорил: случилось нечто угрожающее. В этот момент я принял решение – все новости теперь принимать со смирением. А случилось то, чего и следовало ожидать, – рак вернулся.
В лабораторию я вошел в пять часов вечера, и мне сказали, что при любых результатах придется задержаться здесь на ночь, чтобы они успели разобраться со всеми анализами. В этот момент я осознал, что мы подошли к критической точке.
Приехала Гейл. Она выглядела взволнованной, но держала себя в руках. Где-то к половине девятого мы сидели в приемной дневного отделения. Над нами сияли люминесцентные лампы. Уборщики начали свою ночную работу. В этом месте к нам относились исключительно хорошо, но все равно мы чувствовали себя, как в осажденной крепости.
Через стеклянную дверь мы видели, как Дэвид Каннингем что-то обсуждает со своими сотрудниками. Он выглядел напуганным и озабоченным. Разговор шел явно обо мне. В конце концов к нам вышел Каз Мохински и сказал, что рак действительно вернулся. На этот раз он появился в лимфатических узлах выше и ниже той зоны, которая подвергалась облучению.
Вышел Дэвид. На его лице были написаны ясность, серьезность и решительность. Я спросил, какой прогноз в худшем случае.
«Три месяца», – ответил он.
Гейл спросила, каков самый благоприятный вариант.
«Три месяца».
Я уже рассказывал, каково это, когда тебе в первый раз сообщают, что у тебя рак. Твои инстинкты убеждают тебя, что ты справишься. Сообщения о первом рецидиве меня просто привели в растерянность. То есть как! Этого не должно было произойти! Это какая-то бессмыслица! Лишь после долгой беседы с Тони Блэром я смог увидеть смысл в этом событии, смог понять, что мой рак еще не насытился, а я еще не изменился настолько, чтобы явственно понять смысл вещей и своей собственной жизни.
А вот третье сообщение о вернувшемся раке – это уже совершенно другая история.
Представьте себе сырую, холодную ночь где-нибудь в Индиане, и на тебя вдруг летит десятитонный грузовик.
Реальность, возможность и неизбежность смерти становится вдруг абсолютно бесспорной. От нее никуда не деться, и она в самом деле очень страшна. В мгновение ока мы переходим из зоны, где хоть в чем-то властны над собой, в пространства, где у нас вообще ничего не спрашивают. Теперь над нами властвуют обстоятельства.
Мне осталось жить всего три месяца.
Дэвид вел себя безупречно. Он сказал, что и сейчас болезни можно противостоять, и ознакомил нас со списком возможных мер, но при этом не оставил сомнения, что все эти меры абсолютно условны.
Я протяну не больше трех месяцев. Наши отношения – это уже не обычные отношения «пациент – врач», при которых целью считается выздоровление. Теперь мы сотрудничаем с другими целями. Наше дело – встретить мою смерть.
После этой беседы мы с Гейл были более вымотаны, чем после всех прежних подобных переговоров. Восстановиться в эмоциональном плане после этого было просто невозможно – по крайней мере, так нам казалось.
Мы обсудили все наши дела и переезды в следующие несколько дней. Мне безотлагательно нужно ехать в Марсден, где вставят новую трубку для искусственного питания. На следующий день начнется химиотерапия, которая, теоретически говоря, должна продлиться шесть месяцев.
Теперь все события происходили очень быстро. Оперативность в действиях врачей вызывала уважение, но она же пугала, так как я отчетливее видел свою беспомощность и незащищенность.
Окружающие пытались как-то поднять мое настроение. Из Ньюкасла позвонил Майк Гриффин, сказал, что и на этом этапе с раком можно бороться, даже признавая, что теперь болезнь вырвалась из-под нашей власти.
Я позвонил Тони Блэру, и впервые за наши долгие деловые и личные отношения он просто не нашелся, что сказать. Правда, ему не потребовалось много времени, чтобы снова обрести почву под ногами.
Мы пережили выходные и планировали следующий шаг, которым должно было стать суточное пребывание в Марсдене. Начали прорисовываться контуры привычной жизни онкологического больного.
Снова мы, нервничая, приехали раньше, чем надо. Снова были привычные хлопоты с поиском подходящей комнаты. Снова нужно было налаживать отношения с персоналом, формируя вокруг себя какое-то подобие общества.
Мне сказали открытым текстом, что при моей операции всегда остается риск подтекания и других побочных эффектов. Однако все было сделано с исключительным профессионализмом. Меня резал Сатвиндер Мудан, хирург, который появился в моей жизни в самом начале онкологического путешествия и теперь должен был присутствовать при его завершении.
Он был таким же обаятельным, компетентным и рассудительным, как и в самом начале. Операцию назначили на понедельник, и, чтобы провести ее своими руками, он отложил свой полет в Китай.
Поскольку на моем пищеводе провели уже две операции, сделать новую было непростой задачей, но мы были полны надежды. Как потом выяснилось, новая операция прошла успешно, но раковые метастазы обнаружились и в лимфатических узлах, и в кишках, и во многих других местах.
Этой ночью начались настоящие боли. Сильные, мучительные, распространившиеся по всей пищеварительной системе. И дело было не только в физической муке, но и в том, что она могла сигнализировать о возможном подтекании. Если бы оно действительно было, химиотерапию пришлось бы отложить. Но химиотерапию отложить можно, а вот смерть не отложишь.
На первом месте стояла необходимость срочной химиотерапии. Дэвид Каннингем, которого я всегда считал очень осторожным человеком, на сей раз был полон решимости начать химию прямо завтра. Это было страшно, но действенно. Если не постараться быстро убить рак, так же быстро он убьет меня.
Такова была наша позиция на утро того дня, но уже на следующий день ситуация еще раз круто изменилась.
Боль, судя по всему, возникла из-за подтекания или скопления каких-то жидкостей, которые могут быстро рассосаться. Но ждать, пока они рассосутся, значило отложить химию, а отложить химию значило приблизить мою смерть.
Следующей ночью мне было еще хуже. Я не мог найти удобного положения, а боль стала повсеместной. Кроме того, я впервые попробовал поесть через новую трубку. Во рту разлилась горечь, а чувство слабости сделалось почти невыносимым. Тошнота не отступала. Из-за массы принимаемых лекарств у меня начались галлюцинации.
Так продолжалось день за днем, пока врачи не решили, что остается только прекратить все лечение, всякое кормление и посмотреть, что будет дальше. Это помогло. Мои внутренности немного успокоились, и к пятнице я почувствовал, что худшее позади.
Правда, я чувствовал (и Гейл разделяла мои опасения), что на этот раз я, скорее всего, живым из больницы не выйду.
Во вторник ближе к вечеру после операции ко мне зашел Дэвид. Он сообщил, что снова меняет тактику и возвращает химию как минимум на неделю или на две. Ему стало видно, что наш корабль сбивается с курса.
Он сказал, что на этом корабле мы все вместе, но по его скорбному тону я почувствовал нечто, предвещающее новую опасность. Да, Дэвид стоял на мостике неповоротливого корабля, когда вокруг штормовые волны и мгла, не позволяющая видеть, куда мы держим курс.
Субботнее утро. Ко мне в больницу пришла Гейл, и с этой минуты начались три самых необычных дня в моей жизни. Я никогда не отличался особой эмоциональностью, но сейчас у меня не было выбора и я не смог у таить от нее свои чувства в отношении того, что случилось и что меня ждет. Я посмотрел на Гейл и заплакал.
Я оплакивал утраченные возможности. Я оплакивал упущенные минуты счастья. И главное, я оплакивал рвущиеся связи с другими людьми. Никогда раньше я не мог говорить ни с ней, ни с кем-либо еще, вкладывая в свои слова столько чувства.
Сила, которую придает рак, оказалась весомее, чем сила смерти. До этого момента я видел жизнь как анфиладу с идущими друг за другом дверьми, и на каждой висела своя табличка. На табличках было написано: «Рождение», «Первая должность», «Женитьба», «Дети», «Выход на пенсию». И каждый раз, переступая через очередной порог, я видел безусловную связь между написанным и тем, что переживал на самом деле. А вот с дверью, на которой висела табличка «Смерть», все оказалось совсем иначе: между вывеской и реальностью пролегала огромная пропасть.
Я знаю, что у всех имеются какие-то свои представления о смерти, свои взгляды по этому поводу, но, думается мне, все люди единодушны в убеждении, что смерть – это неправильно, что она должна обитать где-то в другом месте и другом времени.
Смерть обычно связывают со временем упадка, с явной бесполезностью, прекращением развития, отказом привносить в жизнь свой вклад. До некоторой степени все это может быть верно. Но для самого умирающего, такого человека, как я, действуют другие процессы и силы. Откровенная подлинность смерти заставляет нас увидеть мир таким, каким мы его еще никогда не видели, и каждый успевает добавить свое слово к этой «предсмертной резолюции».
Для кого-то это глас Господа, вершащего суд над нами. Возможно, так оно и есть, но мне кажется, что на самом деле это мы сами вершим суд над своей жизнью. Ничем не приукрашенный факт, что ты умрешь и это произойдет совсем скоро, обретает немыслимую силу. Он дарит нам невиданную решимость, знания неслыханной глубины, ярчайшие чувства и шанс обрести согласие с миром и с Богом – шанс, который нам не представится больше никогда.
Я говорил на эту тему с Дэвидом Стерджеоном, уважаемым психиатром, и он сказал мне две вещи, которые сильно на меня повлияли.
Первая состояла в том, что, если хочешь доброй смерти, ты должен принять ее со смирением. Вторая призывала понять, что для многих людей, а возможно, даже для большинства, смерть оказывается самым важным событием в жизни.
Я храню яркие воспоминания о том, как родились мои дочери, и о том, как умер мой отец. И оба эти переживания имеют для меня равную силу. Дети являются в этот мир лишенными сознания; мой отец, умирая в возрасте семидесяти восьми лет, покинул нас, унося с собой опыт многих лет жизни. Очень важно и то, каким ты начинаешь этот путь, и то, каким оказываешься в его конце.
Если ты примешь смерть, она не страшна. Это время для грандиозного перерождения, время, чтобы окончательно самовыразиться и помочь выразиться другим. В каком-то локальном смысле это возможность изменить мир.
Эти три дня, проведенные с Гейл, изменили всю мою жизнь. Я был готов смести все эмоциональные барьеры и открыться ей до состояния окончательной искренности. Я был готов показать ей, что принял свою смерть и свою беззащитность.
Она ответила мне тем же, и уже к вечеру наши отношения достигли такой глубины, о какой мы раньше даже не знали.
А на следующий день, в воскресенье, все было уже по-другому. Гейл вошла ко мне в раздраженном состоянии духа. Сначала она поругалась со мной из-за ка кого-то мелкого инцидента, случившегося с Грейс, потом высказала раздражение по поводу давнего эпизода из ранней истории наших семейных взаимоотношений. Я хотел переехать в другой район, чтобы дочки смогли ходить в хорошие государственные школы. Она же хотела остаться в доме, с которым уже сжилась. Тогда я настоял на своем.
И вот теперь она высказала свои претензии. Она все время повторяла: «Ну зачем ты это сделал? Зачем переселил всю семью из прекрасного домика в такое место, к которому мы так и не привыкли, – в другую часть Лондона?»
Ее до сих пор волновали моменты, когда я проявлял своеволие или когда проводил вечера, работая с фокус-группами, вместо того чтобы уделить внимание дочерям, которые нуждались в моей помощи и не всегда могли ее получить. И сейчас она все мне сказала.
Она также была уверена, что я всю жизнь потворствовал своему инстинкту разрушения. Каждый раз, когда она что-то создавала, будь то новый семейный очаг или что-либо другое, я сладострастно это ломал. Я уже ждал прямого вопроса: «Так кем же ты был все эти годы?», – но он, слава Богу, не прозвучал.
Впервые в жизни я смог увидеть, что некоторые из моих действий были следствием не столько стремления к власти в наших взаимоотношениях, сколько всего лишь моей неуверенности, что я такой властью обладаю. Теперь я вижу, насколько был неправ по отношению к Гейл, да и к самому себе.
С другой стороны, я вдруг увидел, насколько недооценивал ее фантастические, почти безграничные таланты. Нужно было пожить на Планете Рака, осознать свою близость к смерти, чтобы назвать вещи своими именами.
На ярость своей супруги я ответил смирением, извинениями и признанием, что мои действия были неправильны. Я сказал: «У тебя есть все основания обижаться на меня, я это честно признаю». И сразу после этого нас перенесло в совершенно другое место, туда, где мы с ней никогда не бывали.
Я понял, что нам нужно еще очень многое переосмыслить.
Переосмысление – это не просто какие-то представления, которые приходят сами по себе. И после вашей смерти этого никто не сделает. Вы должны вглядеться в свою жизнь. Посмотрев, вы скажете: «Господи, что я наделал! Но у меня еще осталось немножко времени, я еще могу все исправить».
Я принес много зла Гейл, да и многим другим, включая и моих детей. Но Гейл я знал целых сорок лет. Мы провели вместе очень много времени, и немножко времени у нас еще осталось. Вот с моими детьми все по-другому. Они молоды, моим дочерям двадцать пять и двадцать два, и они пытаются вникнуть в то, что со мной происходит. Разбираться во всем этом, в одиночку или всей семьей – в некотором смысле очень сложная задача. Но святая правда состоит в том, что теперь я знаю: если у человека есть воля и желание, он может осуществить грандиозные преобразования.
С моей сестрой Джилл я всегда поддерживал вполне благопристойные отношения, но они не были особенно теплыми. Теперь из-за сложившейся ситуации и благодаря беседам, которые состоялись во время моей болезни, мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем раньше. У нас было время, чтобы совершить эту перестройку.
Весь этот пересмотр, это углубление отношений с людьми, которых я любил, были бы невозможны, если бы не наше знание о моей близкой смерти и мое принятие этого факта. Мы захотели этого пересмотра, потому что они знают, что я скоро умру, и я знаю о своей близкой смерти. Но, кроме того, мы смогли это сделать благодаря тому, что нам было отпущено еще немного времени. Так смерть придала смысл жизни.
Понедельник был последним днем моего пребывания в Мардсене, и дух наших бесед снова изменился. Теперь мы говорили о будущем: о покупке новой квартиры для Гейл и о том, как ей лучше будет устраиваться в жизни без меня. Мы обсуждали, что теперь будет ей нужно, чтобы не стоять на месте.
За три дня мы перенеслись от ностальгии через ярость по поводу прошлого к приятным и вполне осмысленным рассуждениям касательно будущего. Я верю, что это был необыкновенный момент в нашей супружеской жизни, после которого мы поднялись на новый уровень взаимопонимания.
Гейл, как я понимаю, прошла через глубочайшую перестройку. Это не были какие-то поверхностные изменения. Такие перемены свершаются в тех глубинах, где кроются наши корни. Постепенно, шаг за шагом она стала другим человеком – менее замкнутой, более открытой, способной давать людям тепло. Она стала больше доверять мне. В самые тяжелые минуты моей болезни она согревала меня своей нежностью и любовью. Эта любовь была такой сильной, такой страстной, какой я почти никогда не чувствовал в ней в прежние годы.
Бывали в нашей жизни хорошие времена, бывали плохие, но теперь наступили просто новые времена.
Я скоро умру. Смерть неизбежна, она придет через несколько недель, а может, даже через несколько дней. Она абсолютно реальна. Это объективный факт моей жизни. И от этого уже никак не отвертеться и не спрятаться. Никак не уклониться. Она уже здесь. Я умру очень скоро. И покуда я это повторяю себе и не ищу способов улизнуть от этой правды, я пребываю на правильном пути.
Представления о смерти, которые у меня были, оказались, как я теперь вижу, иллюзорными. Даже когда врачи говорили о 25-процентной, а затем о 60-процентной вероятности моей смерти, у меня всегда оставалась лазейка, какой-то шанс выжить. Эта лазейка закрылась, когда мне сказали: «Филип Гоулд, вы умрете. Привыкайте к этому факту. Это случится через несколько месяцев или через несколько недель, но случится». Лишь после этого человек начинает сознавать присутствие смерти, и неожиданно жизнь начинает орать ему прямо в уши.
Врачи, которые имеют авторитет в ваших глазах и которым вы доверяете, никогда не отворачивают лицо от этой правды. Они говорят: «Вы умрете, и это будет скоро, а не в каком-то расплывчатом будущем». Вспоминаю, что где-то в начале этого процесса я выступал по телевидению и сказал: «По словам врачей, мне осталось жить три месяца». При встрече со своим доктором я повторил: «Да, мне осталось три месяца», – на что он возразил: «Нет, это было шесть недель назад. А теперь вам осталось полтора месяца». Ключом к новому знанию становится именно эта абсолютная четкость, ясность, реальная привязка к реальному времени, которое вам осталось прожить.
Освободиться от смерти можно, только приняв ее. Лишь тогда можно с ней договориться и двигаться дальше вперед. Ключом к этому должно быть принятие.
Каждый раз, когда вы говорите себе: «Да, конечно, но…», или «Разумеется, это серьезно, но…», или «Трудно, но может быть…», – вы лжете. И эта ложь не позволит вам правильно дожить вашу жизнь, не позволит умереть доброй смертью.
Когда я сам пытаюсь уклониться от этой правды, начинаю думать: «Да, конечно, может быть…» или когда я слышу это от других, даже от самых любимых, я отвечаю: «Слушай, твой отец умрет, твой муж умрет… Этому нет альтернативы, это должно произойти».
Именно в этот момент ты обретаешь свободу. Ты обретаешь силу. Ты обретаешь мужество.
Вот что я думаю о природе смерти. Я знаю, что люди находят разные пути для взаимодействия со смертью. Есть такие, кто предпочитает ее отрицать. Для них это тоже по-своему честно. Это их собственное решение. Однако мне отрицание не подходит.
Мое понимание жизни, мое понимание смерти, мое понимание всех нюансов, связанных с этими сложными понятиями, позволяют мне абсолютно уверенно говорить: нужно быть честным перед собой, нужно хранить верность себе, то есть нужно принять это как данность.
Дожив до той точки, когда вам говорят (и вы верите этим словам), что вы умрете в самом близком будущем, знайте: вы прибыли на Территорию Смерти.
Если вы знаете об ожидающей вас смерти, но говорите себе: «Ну, мне пока еще далеко до Территории Смерти, потому что пока еще ничего не ясно», иначе говоря, если вам еще не ясно, что вы все-таки умрете, если вы думаете, что это может случиться через год или два, – тогда считайте себя отказником.
Это примерно как говорить: «Действительно, я уже прибыл на Территорию Смерти… но меня здесь пока еще нет». Такая позиция вам не поможет. Необходимо принять этот факт, признать, что вы умрете.
Если вы принимаете вашу смерть, у вас появляется возможность развития. И не только развития (об этом мы еще поговорим) – для вас становятся возможны самые разные вещи. Для этого нужно всего лишь признать, что впереди вас ждет смерть.
Я абсолютно уверен, что в тот момент, когда я принимаю смерть, когда я поворачиваюсь к ней лицом и гляжу ей в глаза, я не побеждаю смерть (ведь смерть победить нельзя), но освобождаюсь от нее. Как я понимаю, в этот момент можно показать себе, что у тебя есть еще мужество, чтобы переступить через смерть. И теперь, хотя смерть все так же нельзя победить, она уже не в силах победить тебя.
Ключ к победе – способность посмотреть смерти прямо в глаза и при этом не зажмуриться. Я знаю, что это звучит очень самонадеянно, но правда, как я думаю, именно такова.
Мы с женой снова отправились к викарию, чтобы обсудить похоронную церемонию. Мы нервничали, суетились, не понимали, что и как надо делать. Однако прошел час, на нас снизошел покой, и мы поняли, что смерти уже не боимся. Мы стояли перед смертью, смотрели ей прямо в глаза и благодаря этому обрели свободу.
В ту же неделю, несколькими днями ранее, я пережил пару очень тяжелых ночей. Дышать было трудно, болела вся пищеварительная система, меня мучили кашель и диарея. Все было плохо. И Гейл была в плохом состоянии.
Я лежал и думал: «Да, все плохо, но это смерть, и покуда у меня хватает мужества смотреть ей в глаза, покуда я способен ее принимать, я могу выбирать (хотя бы до какой-то степени), какой смерти я бы для себя хотел. У меня есть определенная свобода, есть силы, то есть в моей власти выковать для себя свою собственную смерть».
В этот момент я почувствовал свободу. И каждый раз, когда я ощущаю эту свободу, я свободен от смерти – хотя бы на миг.
Страх смерти – это роковое препятствие на пути к пониманию, и идея, что смерти можно посмотреть прямо в лицо, для меня является стержневой, принципиальной (возможно, самой главной), и я знаю, сколь она эффективна.
Ступив на Территорию Смерти, я получил в свое распоряжение алгоритм, с помощью которого шаг за шагом сумел ужиться с реальностью умирания.
Я всегда ожидал, еще после первого диагноза, который был поставлен четыре года назад, что, так или иначе, но я найду общий язык со смертью. Потом, когда пришел первый цикл химиотерапии, меня охватил ужас. В некотором смысле, химиотерапия – это иконографический образ рака как такового. Он приходит вместе со всеми этими трубками, побочными эффектами, столь ужасными вещами, что страшно представить, что они происходили с тобой.
До того как оно началось, я подумал: мне этого не пережить. Я не выдержу химию. Это слишком больно, слишком страшно.
Но ведь ничего, выдержал.
Потом люди, которые тебя лечат, говорят тебе: «Ты понимаешь, парень, что у тебя больше не будет пищевода, у тебя не будет того, другого, третьего, и ты уже никогда не сможешь даже нормально поесть».
Но и к этому ты раньше или позже привыкаешь.
Потом ты понимаешь: что бы на тебя ни свалилось, ты с этим как-то справляешься.
И все потому, что твои тело и разум обладают исключительными способностями справляться с тем, что тебя ждет. Это удивительная вещь. Ты встречаешь эти вызовы один за другим и на ходу учишься, как надо на них отвечать. В человеческом теле скрыто больше чудес, чем мы когда-нибудь сможем понять, – и в физическом плане, и в эмоциональном, и в духовном, и даже в религиозном. Твое тело может совладать со многим. И ты можешь. Ты способен все это победить. Ты можешь терпеть боль, неудобства, неведение, ты справляешься со всеми этими напастями. Все это вполне достижимо.
И осознание всего этого меняет тебя как личность.
А еще есть проблема мужества.
Ты думаешь: Господи, как я напуган! Да я же трус!
Я тоже думал, что я трус. Я ведь из тех, кто в детстве боялся по вечерам быстро гонять на велосипеде. Я боялся больших горок в аквапарке «Алтон Тауэрс», я боялся озорничать в воде, да я даже боялся сунуть голову под воду. У меня просто не хватало духу, чтобы проделывать все эти детские штучки.
Но вот пришел рак и принес с собой очень много боли и страха. И выяснилось, что я вполне могу их выдержать. Снова и снова у меня находилось мужество, чтобы совладать с этой ужасающей, выматывающей болью.
В боли никогда не было и не будет ничего хорошего. Неторопливая и вездесущая, она гложет вас день за днем, и ей помогают дурнота и тошнота. Бесконечная, бескрайняя боль. Но в тебе открываются силы, чтобы перетерпеть и ее. Как бы она ни была страшна, ваша болезнь готовит вас к тому, что ждет вас потом. Вот так она готовила и меня. Она приучала меня к мысли, что она еще вернется. И когда она возвратилась, она подготовила меня к пониманию, что вернется еще раз, и в гораздо худшей форме.
Она добросовестно подготовила меня к самому худшему, а потом устроила экзамен. Она сказала, что еще вернется, и причиной отчасти может стать ошибка врачей. Между прочим, я не говорю, что это непременно должно было произойти, но ошибка тоже оказалась одним из факторов в этой игре.
Учитесь сосуществовать и с такими вещами. Жить рядом с возможностью, что причиной вашей смерти станет человеческая ошибка.
Итак, вы все время соседствуете с множеством неприятных вещей. Это страх, неуверенность, боль. И я понял, что при таком соседстве вы становитесь все сильнее, все свободнее. И в течение всего моего онкологического путешествия мои тело и душа все время не прекращали готовиться к очередной ступени. Рак готовит вас к следующему шагу, не дожидаясь, когда вы завершите предыдущий. И на подходе к концу вы больше не боитесь следующего шага, потому что уже знаете, что и он вам по плечу.
Всем нам приходится терпеть боль, но она мешает жить. Кое-кто думает, что через боль к нам приходит просветление. Мой опыт в этом отношении вполне прозаичен. Когда я чувствую боль, я спотыкаюсь. Мои творческие способности покидают меня. Я в самом деле не люблю боли.
В процессе химиотерапии у меня одну неделю были инъекции, а вторую неделю я отдыхал, и творческой работой я мог заниматься только в свободную неделю. Тогда я писал и делал другие вещи.
Если у вас есть возможность избавиться от боли, не стоит колебаться. На Территории Смерти вам нужно много хороших, качественных дней, которые вы могли бы потратить на друзей, родственников, книги и прочие важные вещи. Избавляйтесь от боли любыми доступными вам средствами. И не важно, какие это будут средства.
И я избавляюсь от боли, как только могу. Она не помогает мне в моих творческих занятиях, в самовыражении, она не помогает завязывать и развивать отношения с другими людьми. Даже когда я беседую с дочерьми, ничего не получится, если я мучаюсь от боли.
Так в чем же смысл боли, если от нее мне нет никакой пользы?
Помню один-единственный момент, когда боль дала мне что-то положительное. Тогда она была самой нестерпимой из всего, что я хоть когда-то испытывал в жизни. Сразу после операции, которую мне делали в Ньюкасле, болело так сильно, что я, помню, сказал: «Господи, теперь я понимаю, что такое настоящая боль».
И я захотел поведать всему миру: я чувствую вашу боль, я понимаю, какую боль вы испытываете. Мне хотелось отправить это обращение всем людям.
Когда рецидив пришел ко мне во второй раз, врачи сказали: «У вас семь лимфатических узлов битком набиты раковыми клетками, а это совсем не хорошо».
Я спросил у врача, каковы мои шансы, а он по глядел на свои бумаги, переложил их с места на место, и я уже понимал, что моя игра закончена. Я не знал, что мне делать. Я не видел перед собой никакой цели. Я чувствовал себя потерянным.
Но все-таки я нашел себе цель. Для начала нужно было подумать: есть ли на новом этапе моей жизни что-нибудь такое, что придаст ей хоть какой-то смысл? Иначе говоря, поиск цели стал моей целью.
Потом пришла та страшная пятница, когда мне по звонили из больницы и сказали: «Один из онкологических маркеров в вашей крови подскочил с 5 до 58 процентов».
И это был конец. Полный и несомненный.
Такое уже не победить, если только вас не сопровождает фантастическая удачливость. Нет, я уже не собирался играть в эти игры. Именно это я и имею в виду, когда говорю о том, что нужно быть честным перед собой. К черту все. Прежде всего нужно быть честным.
Мы с Гейл зашли еще на один совершенно безрадостный консилиум, который проводился поздним вечером. Там медики анализировали результаты томографии. Это были прекрасные люди, но все, что они могли сказать: «Посмотрите, у вас рак повсюду, так что раньше или позже, но он вас убьет. Будет это через три месяца, четыре или пять, но смерть неизбежна». Никаких открытых вопросов уже не осталось, и я это знал. Да, было тяжело, и чувствовал я себя так, будто меня сбила шальная вагонетка, слетевшая с американских горок.
Моя Джорджия, цитируя Леонарда Коэна[12], повторяет, что во всем можно найти хоть какую-то трещину – иначе как свет попадет внутрь? Но здесь не было никаких трещин. А потому внутри – абсолютный мрак и смерть. Я и так, и эдак пытался сдвинуть разговор с мертвой точки, но от доктора слышал одно и то же: «Вы умрете, вот и все».
Мы с Гейл посмотрели друг на друга и заплакали. Мне было так грустно, что я плакал несколько часов подряд. Мы знали, что пришел конец, что не будет никакого спасения, вот мы и плакали.
Через день мы пришли в себя. Нас перенесло в другое место и в другое время. Это был момент какого-то преодоления. Теперь я видел, что цель, которую я так долго искал, состояла в том, чтобы раздать близким всю любовь, какая только у меня была. Да, я умирал, но я знал, что мне нужно делать. Все было совершенно ясно, никакой двусмысленности. Я умирал, и этот факт нужно было использовать самым эффективным образом. Мои цели были ясны. Вот так моя смерть стала моей жизнью.
И моя жизнь обрела такую интенсивность, какой никогда раньше не обладала. В ней проступили неведомые качества и силы.
В этот момент я опираюсь на жену и дочерей, потому что именно с их помощью смогу самоопределиться через смерть, придать значение собственной личности. Без них я даже не знаю, что бы делал. Мне нужна семья и нужен смысл, и в конце концов эти две ценности сходятся в одной точке. Я не вижу пути, как можно было бы пройти через это испытание без поддержки семьи.
Это совершенно невозможно. Я и представить не могу, как кто-нибудь смог бы сделать это в одиночку.
Я во всем безраздельно полагаюсь на свою семью. Я пытаюсь вести и вдохновлять их. Я пытаюсь показать им, как я силен. Да, это я умираю перед ними, но именно я должен при этом показать им путь вперед.
Я не думаю, что на свете много людей, которым оста лось жить на свете меньше трех месяцев и кто при этом сознательно пытается сформулировать свои чувства, как это сейчас делаю я. Нет, я не хочу сказать, что именно я так умен, что мне под силу выразить все эти вещи. Просто вот сейчас для меня открылась эта исключительная возможность.
У меня сейчас потребность писать и говорить о смерти. Мне это важно. Это ведь не простое житейское переживание – знать, что у тебя остались какие-то месяцы, недели или дни. И еще ведь нужно как-то описать чувства, которые при этом возникают.
Я хотел бы кое-что добавить, ведь мы же сейчас не на семинаре. Месяца через полтора или даже раньше я уже буду мертв. Перед этим меня посетит душераздирающий страх. Это реально, это неизбежно, и я вижу, как он встает на моем пути.
В тот момент, когда вы признаете неотвратимость смерти, страх исчезает – по крайней мере, до определенного момента. Прошлой ночью у меня ухудшились показатели в анализах крови, и это не радует. Все мои анализы оказались хуже, чем я надеялся, и мне стало страшно. Я увидел, как на меня наступает будущее. Время утекает между пальцев. Судя по всему, мне уже пора ложиться в больницу, но, попав туда, я живым оттуда не выйду.
Я чувствую все, что происходит, и страх при этом – вещь абсолютно неизбежная. Его можно победить, но нельзя, как ни старайся, его отменить. Даже и не думайте, что это у вас получится. Страх всегда остается при нас.
И вот что я теперь говорю раз за разом – идите навстречу своему страху, ищите, где он прячется. Представьте себя самонаводящейся ракетой, которая идет прямо на источник страха. Такой подход действует – не всегда, но в большинстве случаев. Вам наверняка поможет, если вы будете смотреть на страх под таким углом. Чем смелее вы будете двигаться навстречу своим страхам, чем решительнее попытаетесь их себе подчинить, тем будет лучше.
Вас, наверное, удивляет моя тактика. Казалось бы, без страхов жить лучше, чем в соседстве с ними. Но что поделаешь – мы находимся в мире, где правит один грандиозный парадокс. Это смерть, которая придает насыщенность нашей жизни. Это знает каждый из тех, кто попал на Территорию Смерти. Я все время говорю об этом с людьми, пребывающими в подобной ситуации, – жизнь во всей ее полноте можно почувствовать только через смерть и через страх смерти.
Вот ключик к проблеме. Полнота жизни сознается благодаря знанию, что ты умрешь, что ты умираешь. Это особенно верно, когда смертный приговор у тебя уже на руках, как в моем случае. Ты идешь прогуляться по парку, и на тебя снисходит озарение. Я хожу в Риджентс-парк напротив нашего дома, на художественную ярмарку Frieze. Я захожу в выставочный балаган, сижу там, пью кофе, и на меня волна за волной накатывают чудесные озарения. Они приходят ко мне благодаря новому чувству уверенности, новому знанию, ощущению близкой смерти. Я еще жив, и это счастье.
Только что я говорил, что недавно пережил ужасную ночь. Трудно представить что-нибудь страшнее. Я очень, очень устал, и почти всю ночь мне было дурно. Раз десять мне пришлось ходить в туалет, и все это было просто ужасно. Гейл присутствовала при всех моих муках.
Утром она зашла меня повидать, и в этот момент я выглядел не лучшим образом. Гейл одарила меня нежной улыбкой, столь чудесной, что ее не опишешь словами. Адресованная мне нежность была чем-то таким, чего я и не смел ожидать. Это было настоящее волшебство. И я почувствовал себя в безопасности. Я наконец ощутил, что я дома и меня никто не обидит.
И я понял, что нежность, написанная у нее на лице, полностью определялась тем, что она знала: я умру, вот уже совсем скоро буду мертвым. Без этого знания о смерти не может родиться такая нежность, залогом такого чуда является именно это скорбное знание. Смерть ужасающе жестока, но она же дарит сказочную силу.
Я радуюсь своей смерти. Сейчас, без сомнения, пришло время исполнения моих желаний. Наступила самая счастливая полоса в моей жизни. Меня посещают чудесные озарения. Я нежусь в самых близких и самых теплых отношениях со всеми членами семьи. В моей судьбе это самый насыщенный этап.
Почему радость должна вдруг прекратиться в тот момент, когда вам скажут, что вы скоро умрете? Разумеется, радость никуда не денется. У смерти много граней. Да, на меня накатила печаль. Я прощаюсь с женой и дочерьми. Джорджия сказала мне: «Папа, я очень хотела бы, чтобы ты был на моей свадьбе, чтобы ты поздравил меня с рождением ребенка». Такие же слова я слышал и от Грейс.
Я хотел бы сказать дочерям, что это самое увлекательное, самое необычное путешествие в моей жизни. Жаль только, что оно уже скоро заканчивается. А как было бы здорово путешествовать вместе целую вечность! Потому что я хочу постоянно быть рядом с вами. Я знаю, что это невозможно, но как хотелось бы этого невозможного! Перед вами лежат ваши собственные пути, вы примете от меня эстафету и превратите мой путь в нечто более величественное, еще более необыкновенное.
К сожалению, с приходом смерти у человека возникает чувство незавершенности. Но в то же время смерть запускает процесс перевоплощения, перемен, позволяет пережить состояние восхищения. На моем морально-философском уровне мне трудно сказать, какие грани этого переживания должны считаться более важными. Я просто не знаю.
Зато я знаю вот что. В течение последних пяти месяцев у меня было больше моментов счастья, чем за пять последних лет. Я испытывал глубокий душевный подъем. И наконец, я примирился со всем миром.
Итак, я говорю о моментах высшего наслаждения. Великое равновесие, царящее на Территории Смерти, – это равновесие между болью и победой. А для меня, без сомнения, победа всегда была слаще боли.
Этот завершающий этап становится самым важным, самым ярким в вашей жизни благодаря открывающимся перед вами новым возможностям, способностям, благодаря исполнению ваших замыслов. Можно ли этому радоваться? Конечно, можно! Следует ли этому радоваться? Да, если можно, то почему бы нет?
Я чувствую себя хорошо снаряженным в дорогу благодаря помощи близких. Смерть – это звучит страшно. Но ведь так же страшно совсем недавно звучало слово «рак». Такой же пугающей была химиотерапия, так же страшила операция. Все это суровые и страшные вещи. Но в конце пути все они уже внутри нас, и мы умеем с ними обращаться.
Когда мне поставили роковой диагноз, я уже совершенно четко знал, что мне делать. Инстинктивно я решил поделиться своим опытом со всем миром, и мне казалось, что в этом состоит мой долг. Я был полон решимости в том или ином виде передать мои знания окружающим. Я хотел это сделать и добился своего.
В том, как обычно говорят о смерти, чувствуется некоторое недопонимание. Безусловное недопонимание, хотя не скажу, что люди черное называют белым, а белое черным.
Прояснить это недопонимание – моя цель. Я хочу изменить общие представления о смерти – точно так же, как в прежней жизни я пытался изменить царящие в обществе представления о политике. Я хочу, чтобы люди поняли, что не все услышанное ими о смерти соответствует действительности.
Жизнь – диалектический, а не линейный процесс. Двигаясь вперед, мы подчиняемся законам диалектики. Вы идете своей стезей, узнаете что-то новое и меняетесь. Теперь вы выбираете другую дорогу, на ней узнаете что-то новое и снова меняетесь. И так далее.
Я работал в рекламе, и это мне нравилось. Потом я занимался политикой, и это мне нравилось еще больше. После многих поворотов на моем жизненном пути я очутился в мире рака. Это мир, где действуют грандиозные силы, и, надеюсь, то, что я о нем написал, поможет людям лучше его понимать. Теперь я ступил на Территорию Смерти. И мне кажется, людям хотелось бы узнать и о том, чему я здесь научился.
Не зашел ли я слишком далеко? Не переступил ли через какие-то барьеры? Скорее всего, да. Я без должного внимания относился к нуждам Гейл, Джорджии и Грейс, не говоря уж о моей семье в более широком смысле. Я был полон решимости идти вперед любой ценой, и эту цену я заплатил.
Вынужден признаться, что люди, которые мне очень дороги, не получили от меня того внимания, которого заслуживают. Опираясь на свое чувство долга, я рвался вперед, но при этом не глядел под ноги и явно переступил через какую-то границу, начертанную на песке. Да, я это сделал сознательно, поскольку был готов переступать через многие границы. Я решил, что постараюсь заглянуть дальше, чем подсказывает мудрость, и многие не согласятся с тем, что я делал.
Гейл внимательно прочитала все, что я написал на эту тему. Так же поступили и Грейс, и Джорджия. Но решения здесь принимаю я, а не кто-то другой. И я понимаю, что в этой моей позиции маловато смирения и явный избыток дерзости.
Многие просили меня, чтобы я рассказал всю правду. Многие терапевты, хирурги приходили ко мне в палату и говорили: «Пожалуйста, расскажите всем правду». Особенно это касалось перенесенных мной операций. Поэтому я уверен, что поступил правильно. Я соблюдал определенную осторожность, но, возможно, она была недостаточной. И все равно я не сойду со своего пути.
Я думаю, польза от моего дела неоценима. По крайней мере для Гейл. Еще недавно она боялась говорить о раке и о смерти, а теперь стремится к открытым разговорам на эту тему, она хочет, чтобы я обнародовал все, что знаю.
Моих дочерей это иногда заботит, а иногда и раздражает. Смерть всегда связана с чувством покинутости. А будучи покинутым, всякий ощущает и печаль, и обиду. Я это хорошо понимаю. И тем не менее даже мои дочери осознают, что на их счету не только утраты, но и приобретения. Все, что я написал и рассказал о своей болезни, оказалось очень важным для всех нас – в нашей семье подобные вещи обсуждались нечасто. Опасения не оставляли меня ни на минуту. Но я был полон решимости довести дело до конца или, по крайней мере, идти вперед, пока есть силы.
Смысл жизни состоит в том, что вы развиваетесь, меняетесь, растете, все время становитесь новым человеком. Суть в том, что жизнь – это нечто такое, что вы делаете своими руками.
Я абсолютно уверен, что скоропостижная смерть (то есть когда человек ни с того ни с сего вдруг упал и умер) вряд ли была бы лучше, чем та, что досталась мне. Умирая без осознания, человек теряет очень многое. Разумеется, хорошо было бы увернуться от встречи со смертью, как-нибудь затупить это острое лезвие. Разумеется, при этом вы сможете избежать сильной боли. Однако эти преимущества – ничто в сравнении с тем, что вы получаете, когда сознаете свою обреченность и действуете на основе этого знания.
Вам выделяется три месяца, два месяца, один месяц, да пусть хоть неделя, в течение которой вы можете сесть и подумать, привести к завершению все ваши отношения с миром, – вот величайший дар, который вам может преподнести ваша смерть. Если вы сумеете принять смерть, то состояние скорби, которое непременно последует за этим признанием, будет очень сильным, но все-таки преходящим, а главное, оно возвысит вашу душу и развяжет вам руки. Вы заглянете смерти в глаза и смиритесь с ней, после чего уладите ваши отношения с миром, и это прольет бальзам на вашу душу.
В течение последних недель я разобрался со всеми делами, которыми был занят шестьдесят лет моей жизни. Очень важно увидеть в этом особый смысл. Это не пассивное состояние примиренности, а активный процесс.
Весь прежний опыт сплавляется воедино. При этом обязательно надо рассмотреть все неожиданные пересечения и скрещения судеб, какие случались в течение вашей довольно-таки долгой жизни. И анализ, осмысление всех жизненных процессов даст вам энергию завершения, силу для роста и движения вперед. Применительно к себе я ощущаю, что в таком темпе не рос и не двигался вперед никогда в жизни.
Эта волна понимания переносит вас на другой уровень бытия. Все мы привыкли думать в терминах линейного времени, когда одно событие следует за другим. Однако это лишь одна из форм, в которых выступает перед нами такая сложная материя, как время. Представлять себе его столь примитивно я уже просто не способен.
Зачем мне сейчас традиционные представления о времени? Полгода или девять месяцев – такие периоды для меня уже не существуют. Поэтому я осмысляю мир не через время, а через чувство, через взаимоотношения, через любовь.
Я смотрю на мир сквозь прекрасный букет из эмоций, взаимоотношений, перемен и сдвигов – через все вместе. Вот так я теперь живу. Когда я пытаюсь шагать вперед, имея в виду привычные представления о времени, смотрю в будущее, считаю минуты, часы или дни, то рано или поздно упираюсь в каменную стену – по другую ее сторону я уже мертв.
Гораздо лучше думать, взяв за основу другие, более весомые представления о движении – человеческие взаимоотношения, эмоциональную связь, духовное взаимопонимание, ощущение Бога, представления о горнем мире. Для меня теперь нет будущего, я научился течь в обратную сторону, и существующее рядом со мной, то, что называют «здесь и сейчас», – это сцена, на которой развертывается весь мир. «Здесь и сейчас» – то место, где я живу, где крутится хоровод всех этих мыслей и чувств.
Разумеется, иногда, на какую-нибудь секунду я заглядываю в свое завтра. Я мысленно перебрал все дни будущей недели, и каждый из них был лучше, чем предыдущий. Любой конкретный момент оказывался лучше, чем тот, что стоял перед ним.
Моему оптимизму нет альтернативы. Я знаю, что будущее страшно. Я знаю, что мне придется очень трудно. Я знаю, что наступят страшные минуты, когда мой желудок будет вытворять, что ему вздумается. Все это я знаю.
Но лучшей жизни не бывает на свете. И я не могу быть счастливее, чем сейчас. Я не представляю себе, чтобы жизнь была добрее ко мне, чем в моем нынешнем состоянии. Зато я знаю, как улучшить жизнь тех, кто обо мне заботится и любит меня. Я понимаю это и не пытаюсь опровергнуть. И для меня нынешняя полоса в жизни, будучи самой тяжелой, остается при этом самой счастливой.
Приняв к сведению все, что я здесь наговорил, разумно было бы меня спросить: как бы я поступил, если бы вдруг вследствие какого-то чуда мне отменили мой смертный приговор? Принял бы я спасение ценой того, что мне пришлось бы забыть все открытия, которые я сделал здесь, на Территории Смерти? Вопрос непростой.
Я бы принял помилование ради моей жены и дочерей. Я вполне понимаю, что все еще нужен моей семье, и уважаю это. Но я уверен, что пребываю сейчас именно в том месте, которое мне уготовано. И я хочу оставаться здесь, сохранить эти свои представления и с ними умереть, если у меня на это хватит сил. Я есмь (по крайней мере надеюсь, что я есмь) новая личность, лучшая по сравнению с той, которая жила в моем теле до того, как пришла болезнь.
Я рожден для того, чтобы быть здесь, чтобы делать то, что я делаю. И это не должно остаться просто благими намерениями. На своем примере я хочу изменить жизнь других людей.
Мне сейчас спокойно жить. Разумеется, есть место и для страха. Но я уже говорил, что мы можем противостоять страху и преодолеть его. Пребывая здесь, можно перенестись в другие края. Это действительно так.
Последние четыре года со мной случались вещи и похуже, чем то, что ждет меня в ближайшем месяце. Придется тяжело, но я надеюсь, я верю, я думаю, что в конце станет легко. Не в возвышенном религиозном смысле, хотя и ему, возможно, найдется место. Я всего лишь говорю, что будущее мне видится в летучих и легких красках.
Я абсолютно спокоен. Я расслаблен. Я сознаю, что опыт, переживания последних недель были самым прекрасным, что я когда-либо знал. И такова была вся моя жизнь с того момента, как я ступил на Территорию Смерти.
Оправившись после операции в Ньюкасле, я начал снова размышлять о том, как организовать собственные похороны. Я позвонил на Хайгетское кладбище и спросил, есть ли у них какие-либо рекомендации. Им было что посоветовать, и мне указали человека, с которым можно переговорить на эту тему. Потом – то одни заботы, то другие – я совершенно забыл об этих своих планах.
А дальше, когда меня уведомили, что я смертельно болен и смерть не за горами, я снова вспомнил об этом звонке. Я нашел тот телефонный номер, но человек, о котором мне говорили, уже на этом кладбище не работал. Впрочем, тот, кто ответил на звонок, сказал, что в любом случае обещает обо мне позаботиться.
«Не волнуйтесь, – сказал он. – Меня зовут Виктор. Я могильщик».
Разумеется, я ожидал, что Виктор окажется мужиком косая сажень в плечах и с большой лопатой в руке. Когда я встретился с ним, он, как ни странно, действительно был косая сажень в плечах и с лопатой в руке.
Виктор Херман по роду своих обязанностей имеет дело с мертвыми и такими, как я, то есть с теми, кто собирается умереть. Он служит в Хайгете уже двадцать два года, хотя свою первую могилу выкопал еще за десять лет до начала официальной кладбищенской карьеры, когда ему было четырнадцать. Его отец был здесь много лет главным могильщиком, так что их семья по праву могла бы считаться частью истории этого кладбища.
Виктор и мы с Гейл пару раз бродили по кладбищу, и он показывал нам разные уютные местечки то там, то сям. Впрочем, все это было не совсем то, чего мне хотелось.
Я хотел обзавестись достаточно просторным участком, который стал бы родным местом для нашей семьи и друзей. И я имел в виду не столько место для захоронения, сколько место для встреч, нечто существующее физически, то, что можно увидеть и почувствовать.
Виктор при его мужицком телосложении имел нежную душу и с Гейл обходился очень тактично. Имея всю жизнь дело со смертью, он лучше других знал, как утешить человека.
С нами он был очень ласков, стояло прекрасное утро, и в конце концов мы выбрали подходящее место.
Найти реальное место для себя – это являлось серьезным шагом. С одной стороны – место, куда могли приходить живые, если хотели как-то со мной пообщаться. В частности, это было бы очень удобно для моих дочерей. С другой стороны, я наконец увидел место, где собирался провести целую вечность. Место, где меня могли бы навещать члены семьи и друзья.
А может быть, не только люди, которые были со мной лично знакомы. На кладбищах всегда есть гуляющие, разглядывающие могилы. Они посмотрят и на мою могилу, так что она станет некоей точкой встречи между живыми и мертвыми. Я знаю, что это звучит очень романтично. Но ведь и живые и мертвые – часть нашей жизни. Мне, к примеру, очень приятно знать, что меня положат именно там.
Тем утром я стоял у моей могилы и думал: «Господи! Я очень, ну просто очень счастлив, что меня похоронят в этом месте. Это маленькая победа альтернативного взгляда на смерть».
А дело тем временем двигалось, смерть подступала все ближе, мои впечатления и переживания становились все более яркими и при этом все более радостными. Это ведь тоже удивительно. Происходят вещи, которых я совершенно не ожидал. Случаются странные совпадения. Оказалось, что я ступил в мир, который выглядит совсем не так, как я представлял. Он оказался гораздо лучше. Но главное, у этого мира была совсем другая природа, другая реальность, там действовали другие законы и правила.
Я знал, что это утро, когда мы отправимся навестить мою могилу, будет особенным, и я не ошибся. Меня сфотографировали на месте моего погребения. Пока что я жив, но скоро буду мертв. Впечатление было очень яркое, и оно повлекло за собой целую цепочку следствий, весьма удивительных и неожиданных.
Этим утром я не чувствовал себя там, где царит смерть. Кладбище не казалось мне местом, из которого ушла вся энергия, в котором происходят только процессы упадка. Здесь совершенно не чувствовалось духа разложения.
Я видел, что это тоже жизнь. В этом месте мы переносились из того состояния, в котором жили, в какое-то совершенно новое бытие. А в этом, как я полагаю, и состоит процесс смерти.
Вчера у меня была изумительная прогулка в компании дочерей. Началось все не так, как задумывали. Я чувствовал себя неважно. Все было как-то ни шатко ни валко, и все мы чувствовали себя усталыми и напряженными, но стоило только выехать из Лондона, как все изменилось.
Мы проехали там, где я проводил время, будучи мальчишкой. Одно памятное место сменяло другое. Мы побывали около моей школы, около дома, где я провел детство, там, где я играл в футбол, где занимался спортом.
Наш дом стоял на канале, и я помню, какими живописными были его берега. Вчера, во время нашей прогулки, канал был так же красив.
Мы посетили могилы моих родителей, и я сказал Джорджии и Грейс (как я говорил им уже много раз), что и сейчас не проходит дня, чтобы я не тосковал по ним.
Каждое место, куда мы заглядывали, придавало энергии нашей прогулке, и к ее концу мы пребывали в полной эйфории. Чувство радости объединило всю нашу семью, и на прощанье Джорджия сказала: «Это был самый прекрасный день».
И это после пары дней, которые дались мне очень тяжело. В нашей прогулке было нечто особенное, что оказалось бы невозможным, не поднимись ставка так высоко. Наше общее чувство счастья вряд ли посетило бы нас, если бы мы не знали, что моя смерть совсем близко.
Мои дочери знали, что мне пришла пора умирать, да и я это знал. В такой ситуации мы вместе решили совершить нечто сложное и рискованное – как это совместное путешествие в мое прошлое.
Смерть придает смысл жизни, и знание, что тебе суждено умереть, наделяет тебя уверенностью, что в твоей жизни есть смысл. Если смерть где-то рядом, человек обретает способность чувствовать абсолютную насыщенность жизни. Жизнь становится драгоценной, и не просто потому, что ее осталось так мало, а потому, что ее природа становится более текучей, многогранной, активной. Такое ощущение, что даже в воздухе, наполняющем эту комнату, появилось больше молекул и они стали двигаться быстрее.
Смерть настигнет каждого, но сейчас она пришла ко мне.
Прошло еще несколько дней. Мы снова катались по пригородам, радуясь природе и единению нашей семьи. Так я и задумывал, готовясь к следующему циклу химиотерапии. После этого уик-энда я заметил, что у меня возникли проблемы с дыханием. Мне стало трудно подниматься по лестнице и совершать активные движения, началась одышка.
Ничего не предпринимая по этому поводу, мы дождались вторника, поскольку именно в этот день должен был начаться следующий цикл химии. Врачи посмотрели на меня и сразу вместо химии направили на новый цикл диагностики. Меня ждали анализы крови и рентген.
Результат был вполне ясен. Уровень инфекции в легких дошел до опасной черты, сопровождаясь обширным воспалением. Вот отчего мне стало трудно дышать. Всем было ясно, что на этот раз мое тело уже наверняка не справится со всеми нагрузками, которые будут сопутствовать лечению.
В четверг 3 ноября меня навестил Дэвид Каннингем, оставив всю свою свиту за дверьми, и мы беседовали наедине. Он сказал, что, на его взгляд, лечение, и в частности стероиды, которые мне давали последнее время, не приносят желаемого результата. Какие-то показатели моей крови удовлетворительны, но отнюдь не все.
Я спросил его, каков самый пессимистичный прогноз.
Три-четыре дня, ответил он.
А самый оптимистичный?
Три-четыре недели.
Когда-то самым большим потрясением для меня было уведомление, что мне осталось жить три-четыре месяца. Теперь же объявление нового графика, согласно которому я умру через три дня, стало еще одним квантовым скачком на новый энергетический уровень.
Выслушивая все прежние диагнозы, я не был уверен, что точно знаю свое будущее. На этот раз было уже по-другому. Я знал, что меня ждет.
Я сделаю все, чтобы остаться честным перед лицом смерти. Я постараюсь со всей ясностью увидеть ее важность и рассказать о ней тем, кто идет моим путем.
Я знаю, как это тяжело, но я попытаюсь.
В своей книге «О смерти и умирании» Элизабет Кюблер-Росс[13] писала, что на фоне любви этот период может стать самым благодатным, самым драгоценным кусочком жизни. И я уверен, что она права. Смерть пробуждает творческое напряжение в жизни человека, и когда вторгаешься на Территорию Смерти, этот н акал растет до исключительных высот.
Я не сомневаюсь, что предсмертный отрезок моей жизни – самая важная и, возможно, самая благодатная ее часть. Время в его обычном понимании здесь утрачивает смысл. И дальше человек прокладывает себе путь, ориентируясь только на координаты чувства, нежности, сопереживания и любви.
Я подхожу к двери, на которой табличка со словом «Смерть». Возможно, за ней меня ждет нечто страшное, но я верю, что там мне откроется такая радость, какая раньше была мне неведома.
Четыре дня, чтобы изменить мир
Последний раз папа отправился в Марсден во вторник. Это не был экстренный вызов – просто назначение на рутинную химиотерапию.
Мы были настроены на долгий период постепенного угасания, хосписов и прощаний. Мы так долго жили с этим раком, что уже привыкли к полосам слабости и страданий, привыкли к его изнуренной исхудалой фигуре, тонкой и шелушащейся коже. Все эти вещи были не столько знаками приближающейся смерти, сколько реакцией на лечение – шрамами, которые остались от стычек с болезнью.
Разумеется, мы знали, что обещают ему врачи. Его болезнь была смертельной. Прошло уже два месяца из трех, которые ему напророчил профессор Каннингем. Смерть стала нашим постоянным компаньоном. Мы вместе посещали Хайгетское кладбище, обсуждали сценарий похорон, составляли график посмертных публикаций. Но что касается меня, мне неизменно думалось: до его смерти всегда остается хотя бы один шаг. Папа все время был с нами, он активно, заинтересованно участвовал в наших беседах, то есть был абсолютно живым.
Да и сам папа, хоть и лучше нас сознавал, что его ждет, временами забывал об этой реальности. Я помню, как он говорил, что просто в восторге от новых туфель, и предвкушал, как они будут здорово смотреться на похоронах. Потом он, конечно, спохватывался и вспоминал, что на похоронах он будет лежать в гробу и его туфель никто не увидит. Он шутил, что поднял такую шумиху по поводу своей смерти, что пора бы озаботиться и о планах отступления – на случай, если вдруг он возьмет да и не помрет, нарушив все свои обещания.
Когда человек полон жизни, юмора, мудрости, если он всегда остается самим собой, трудно заметить, что его тело постепенно тает. Более того, естественно вообще не помнить о пропасти между жизнью и смертью. Есть большая разница между знанием факта и его осознанным принятием.
Папа решительно и целенаправленно занимался тем, что готовил меня и сестру к своей смерти. Он лучше нас знал, как нужно ценить отпущенное нам время. Он вложил все, что у него было, в то, чтобы снабдить нас советами на все случаи жизни, чтобы ответить на те вопросы, которые до поры до времени даже и не приходили нам в голову.
В четверг, еще до последней госпитализации, мы устроили поездку в Бруквуд, местечко, где он провел детство. В моих воспоминаниях этот день и сейчас выглядит настоящим чудом.
Я не спала всю ночь, дописывая доклад. Моя сестра Грейс была занята на работе. Но папа настоял на поездке, сказав, что у нас уже не будет другого случая побыть вместе. Вот мы и поехали. Папа заказал машину, поскольку мама была вся в заботах, а она до сих пор единственный член нашей семьи, умеющий водить машину. Папу мучила дурнота, так что два раза нам приходилось возвращаться за лекарствами от тошноты. В конце концов он запасся всеми необходимыми таблетками и все как-то утряслось.
Вот-вот должен был начаться ноябрь, и странно было, отъезжая от дома, видеть это прекрасное солнечное утро. Сначала мы поехали навестить могилу его родителей в Уокинге. Я много раз бывала там с папой раньше. Он всегда говорил нам, что родители были неотделимой частью его жизни.
Кладбище содержалось в идеальном порядке. Все вокруг сияло на солнце осенними красками. Здесь царила волшебная атмосфера, дух примирения со смертью. Папа без посторонней помощи расплатился в администрации, продлив аренду семейного участка еще на двадцать пять лет. Это, судя по всему, сняло груз с его души. В последний раз он смог проявить заботу о родительской памяти.
Помню, та простота, с которой мы говорили о папином состоянии, несколько шокировала администратора в крематории. Как-то я предложила развеять пепел кошки, которая была у нас в детстве, рядом с отцовским прахом. Помню, эта идея позабавила отца, но сестру мою привела в ярость, так что я быстро дала задний ход. Характерно, что он именно теперь решил подлить масла в огонь, спросив администратора, можно ли в кладбищенском саду развеять прах домашнего животного. Администратор ответил категорическим отказом. «Знаете, – сказал папа, – я тут собрался помереть, и моя дочка хочет смешать мой прах с прахом ее любимой кошки». Администратор ледяным голосом предложил нам дождаться решения в комнате, куда можно войти с задней стороны. Он явно не желал оставаться в одном зале с этой психованной семейкой. Помню, как мы сидели в пресловутой задней комнате и втроем покатывались со смеху.
Папа не уставал повторять, как он счастлив. Позже он сказал мне, что в тот день остро почувствовал, как мы сильны, энергичны, лишний раз убедился, что пришло наше время и что после его ухода мы отлично справимся сами. Но я в тот день такого не почувствовала. Я просто спешила задать все вопросы, какие мне приходили в голову, и постараться впитать все услышанные ответы.
Мы ехали по улице, на которой он вырос; он рассказывал нам, как основал здесь отделение лейбористской партии, но в него вступило мало народу, и его отец подал заявление только для того, чтобы довести число членов до сколько-нибудь благопристойного показателя. Он рассказывал, как ходил по домам в этих пригородах и был раздосадован тем, что надежды и мечты этих людей ничего не значили для его любимой партии.
Он рассказывал нам, как в литературе открыл для себя новый, более широкий мир, как нечто в его душе подтолкнуло его уехать из Уокинга, когда ему было всего шестнадцать лет. Он желал, чтобы мы увидели и поняли каждую мелочь, чтобы для нас не осталось ничего неясного.
Он показал холмы, на которые взбирался каждый день, разнося по домам газеты; бывшую стройплощадку, где он подрабатывал в летние каникулы. Он водил нас по лесу, где гулял в одиночестве, привел к речке, где рыбачил, где обрел покой, предаваясь собственным мыслям.
Потом погода изменилась. К тому времени, когда мы подъехали к Нафиллской школе, хлынул дождь. В этой начальной школе наш дед был директором. Папа все равно настоял на том, чтобы мы выбрались из машины. Мы побродили вокруг школьного здания, и он отказывался слушать наши предостережения, что мама будет недовольна.
Он рассказал нам, как его отец заботился о простых детишках, учившихся в этой школе, как добивался, чтобы им построили плавательный бассейн. Рассказал он и о том, как тяжело приходилось в школе ему самому. В одиннадцать лет он был настолько скован и робок, что едва научился писать, а закончить смог только неполную среднюю школу.
Во время прогулки мы фотографировали и кое-что записывали. В пивной мы перекусили, сам он едва осилил пару ложек супа, но настоял на том, чтобы мы съели полный обед.
Я и сейчас вижу его как живого, сияющего от счастья, радующегося каждой минуте.
Таков был четверг. А к понедельнику ему стало трудно дышать. Для него одышка была новым симптомом, так что она обеспокоила всех нас, а особенно маму. С ее интуицией она всегда чувствовала приближение настоящих неприятностей. Она ведь видела по ночам столько страданий и боли, столько страшных демонов, посещавших нашего папу.
На вторник ему назначили стандартную инъекцию в курсе химиотерапии, но мама так волновалась, что тайком позвонила в больницу и попросила, чтобы отцу, когда он придет, снова сделали кое-какие анализы. В то утро оба они были очень напряжены, а у меня весь тот день было нехорошее предчувствие.
В четыре часа, когда я была на одном собрании, я получила от мамы эсэмэску, в которой она писала: «У папы признаки воспаления легких, но он держится молодцом». Что касается моих родителей, я давно знала: любые услышанные от них дурные новости нужно умножать как минимум на полтора, так что сразу же поймала такси.
Когда я приехала в больницу, обстановка там была напряженной. Я увидела, что мои родители напуганы, но стараются поддерживать друг друга. Отец, как всегда, шутил, позволил мне помассировать шею, спрашивал, какие у меня новости. Все это было похоже на затишье перед бурей, и мы хотели знать, что за несчастье должно на нас обрушиться.
И вот оно уже у нас над головой.
Вошла врач и сказала, что она уже закончила работу (до окончания смены), но готова сообщить результаты только что сделанной томографии. Да, у него воспаление, которое захватило почти все легкие, но они постараются как-то его побороть.
Что-то в ее тоне, в ее нежелании смотреть нам в глаза показывало, что ситуация по-настоящему серьезна. Я помню, что мне не сразу удалось адекватно воспринять эту новость.
Папа спокойно спросил: «Это угрожает жизни?»
«Да».
«Все может произойти прямо этой ночью?»
«Да».
И земля уплыла у нас из-под ног.
Еще в воскресенье мы обсуждали, сможет ли папа провести с нами Рождество, строили планы на следующий месяц. И никто из нас не думал, что все начнет происходить так быстро.
Меньше всего об этом думал папа. У него были такие грандиозные планы! Я прямо вижу, как он просматривает в уме список запланированных дел – с какими людьми еще нужно повидаться, что необходимо доработать в его книжке. Он дышал все чаще и чаще, и нас охватила паника.
Потом врач сказала, что с такой одышкой, с какой папа вошел в ее кабинет, она госпитализировала бы любого пациента, а сейчас этот симптом еще усугубился. Папа попросил маму, чтобы она вышла и позвонила профессору Каннингему. Голос у него был напряженный, и я помню, как отчаянно пыталась вспомнить нужный номер. Как-то вдруг мозг перестал мне подчиняться.
Профессор Каннингем сказал, что уже видел томограмму и что наше дело плохо. Пусть девочки останутся в больнице – все может случиться прямо сегодня ночью. Когда мама вышла из комнаты, папа сказал, что уже чувствует приближение смерти. Вряд ли он протянет долго.
Я видела, что он пытался обуздать свои страхи, держаться как можно спокойнее, но это у него не очень-то получалось. Он сказал нам, и в частности маме, что больше всего в перспективе смерти от рака пищевода его страшила возможность удушья. Он всегда боялся тесных замкнутых пространств, боялся утонуть. Он с ужасом думал, что это значит – безуспешно хватать ртом воздух. Одышка у него ассоциировалась с хрипами из груди, которые он слышал, стоя у смертного одра своего отца. И в этот ужасный момент он испугался, что вместо смерти, на которую он надеялся, к нему придет смерть, которой он всегда боялся.
К нам пришел поговорить доктор Крэйг Карр, заведующий реанимацией в больнице Марсден. У него был талант создавать вокруг себя атмосферу покоя и умиротворения, и между собой мы называли его «улыбающийся Будда». Он повторил, что ситуация очень серьезна, а инфекция распространилась очень широко.
Он предложил нам рассмотреть три варианта. Первый – не делать ничего. Это наверняка будет значить, что папа эту ночь уже не переживет. Второй – облегчить дыхание с помощью кислородной маски, а они тем временем попытаются обуздать воспаление. Третий – хирургическое вмешательство, то есть попытка подключить папу к аппарату жизнеобеспечения, но шансы, что это даст какие-то положительные результаты, все равно крайне ничтожны.
Папа уже немного успокоился, он снова ощутил себя хозяином своей жизни. Он четко понимал, что третий вариант ему совершенно не нужен. Конечно же, он хотел жить, но вопрос был в том, какую цену придется за это заплатить. Он сказал доктору Карру, что вполне готов умереть, но не хотел бы, чтобы смерть проходила на фоне страшной боли и прочих неудобств.
Доктор Карр вышел со словами, что подготовит место в реанимации и пришлет человека, чтобы папу туда отвезли. Мама написала моей сестре, прося срочно приехать. Грейс уже была в дороге и вскоре появилась в больнице. Лицо у нее было напряжено, но она не собиралась задавать лишних вопросов. Потом она рассказала мне, что, войдя, она почувствовала в воздухе такое напряжение, такой страх, что одно это подействовало на нее угнетающе.
Папа захотел провести по минутке наедине с каждой из нас. Грейс рассказывала, что она только снова и снова просила папу не бояться. Он сказал, что не боится, но его глаза выдавали правду. Я сказала, что в своей жизни он сделал достаточно много, написал книги, что мы можем и отсюда питаться его духом. Я хотела сказать, как я его люблю, но не могла подобрать верных слов.
Я не хотела, чтобы все это происходило прямо вот так. Я была еще не готова. Мне нужно было так много сказать, дать волю моей любви и нежности. Я не хотела, чтобы хоть что-то оставалось недосказанным. Но разговор оказался слишком кратким, скомканным, и я отошла от него в полном отчаянии.
Подошли санитары, чтобы отвезти его в палату, а мы поднялись по лестнице, собираясь ждать в комнате для членов семей. Грейс принесла нам горячего шоколада. Никто из нас почти ничего не говорил.
Наконец медсестра пригласила нас повидаться с отцом. Он лежал в постели посреди небольшой комнаты под целым навесом разного медицинского оборудования. На голову ему надели специальный дыхательный шлем – что-то вроде пакета из толстого прозрачного пластика. Он был подключен к кислородному аппарату и облегчал дыхание, создавая вокруг головы повышенное давление.
Все это было похоже на картинку из комикса. Мы все рассмеялись, и это слегка выпустило пар. В некотором смысле это было правильно. Наш папа, человек весьма экстравагантный, способный внести дух шутки в любую ситуацию, вполне заслужил право закончить жизнь с таким смешным устройством на голове. В шлеме была небольшая открывающаяся заслонка, чтобы можно было через нее подать воды или обтереть лицо, но сам шлем с головы уже не снимался.
Комната представляла собой один из антисептических боксов для больных с какими-либо инфекциями или пациентов, для которых инфекции представляют особую опасность. Простое, строгое помещение, предназначенное для чисто лечебных нужд. Раковина, пара стульев, а на дальней стене за папиной спиной два небольших окна. Еще было два монитора, на которые выводились основные параметры жизнедеятельности, – один прямо над койкой, а второй, с более подробной информацией, на рабочем месте медсестры, и она постоянно на него поглядывала. В этой комнате все выглядело надежно и по-деловому – и сестра, и всякие трубки, через которые поступают необходимые лекарства, и провода от разнообразных датчиков.
После того как я только что видела беспомощного папу, напуганного, едва дышащего, я поняла, что в реанимации ему была обеспечена относительная безопасность. Дыхание у него успокоилось, и около полуночи к нам зашел доктор Карр. Он сказал, что эту ночь папа наверняка переживет. Да и папа снова стал самим собой. Он успокоился, как и его дыхание.
Папа настаивал, чтобы мама хоть немного поспала. Последние несколько ночей она постоянно была на ногах. С другой стороны, я почувствовала, что ему очень не хотелось оставаться одному, так что я решила ночевать в больнице. Было видно, что ни мама, ни Грейс не хотели уходить, но я их буквально вытолкала, пообещав, что буду спать в комнате отца и в случае чего сразу их позову.
И вот я села рядом с папой. Мы посмотрели свежие сводки на сайте RealClearPolitics, обсудили дела, складывающиеся вокруг республиканской номинации, – все было так, как много раз до этого.
Потом я включила CSI, программу, которую он часто смотрел по вечерам, чтобы отвлечься от боли (правда, мы, все остальные, эту программу просто ненавидели). Я отчетливо помню, как он попросил, чтобы я развернула телевизор, чтобы и мне было хорошо видно экран. Потом Грейс сказала мне, что, когда она оставалась с ним наедине, он вел себя точно так же. Этот маленький жест был очень в его духе – невзирая на боль, на неудобства, все окружающее было важно для него, и ему в самом деле хотелось, чтобы я тоже с комфортом смотрела его любимую передачу.
Потом, уже под утро, он сказал, что хотел бы поспать. Я заказала такси и проплакала всю дорогу домой.
Среда, 2 ноября
Мама хотела поговорить кое о чем с папой наедине, так что мне довелось поспать пару лишних часов – примерно до семи. Я проснулась с чувством тревоги, которое владело мной весь предыдущий вечер, и позвонила в больницу, чтобы убедиться, что с папой все в порядке. Медсестра меня успокоила, сказав, что он чувствует себя неплохо. Часов в восемь мы с Грейс отправились туда, прихватив по дороге кашу и кофе – завтрак для мамы. Кроме того, мы взяли то, что просил папа: его книжки по искусству умирания, статьи о раке и ноутбук. Это было только начало. Потом последовала целая череда его просьб, которые мы выполняли, а он о них тут же забывал, так что скоро вся комната была завалена грудами его вещей. В результате это стерильное больничное помещение постепенно стало нашей жилой комнатой. Мы приходили и уходили, когда нам было угодно, никто не просил нас освободить комнату, для нас не было никаких расписаний. Благодаря заботе местных врачей мы стали как бы частью этой больницы. Даже странно, как быстро человек привыкает к новому образу жизни. Эта крошечная комнатка стала нашим общим жилищем, а возникшие при этом новые ритуалы, привычки и обычаи создали странное ощущение комфорта и нормальной жизни.
В медицинском плане ситуация тоже нормализовалась. Доктор Карр сказал, что папа наверняка проживет еще дня три, а то и пять, а к концу недели мы будем знать, что происходит с воспалением. Если его победят, папа выиграет еще несколько недель. Папа спросил, можно ли гарантировать, что он протянет еще неделю. Доктор Карр ответил: «Нет, но я могу гарантировать, что уход за вами будет такой, как за членом моей собственной семьи». И он выполнил свое обещание.
Итак, у нас снова появилась надежда. Впрочем, как мне потом сказала мама, по большому счету надежды давно уже не было. Все мы знали, что надежда совершенно эфемерна и что даже если сейчас его поставят на ноги, через неделю-другую все это повторится снова. Не думаю, что хоть кто-нибудь из нас, а уж папа тем более, полагал, что он выйдет живым из этой комнаты.
В среду утром нас навестил Аластер Кемпбелл. До этого он говорил по телефону с мамой, когда она тут провела вместе с нами целую ночь. Каково же было его удивление, когда он увидел папу сидящим, улыбающимся и отпускающим свои обычные шуточки. И ему трудно было объяснить, как мы были близки к смерти в предыдущую ночь.
Это было что-то нереальное – сидеть рядом с ним, болтать о Франции, футболе, политике и сыновьях Аластера. Папа сказал Аластеру: «Знаешь, ты всю жизнь мечтал поселиться в эдаком невидимом пузыре, а вот мне именно такой и достался». Аластер в этот вечер устроил импровизированную викторину и задавал нам разные вопросы. К этой игре примкнула и Джеймс, дневная медсестра. Точно такая же обстановка могла бы быть дома, в нашей гостиной.
После этого вечера Аластер записал в своем дневнике:
«Ф. Г. все еще с нами. Они более-менее привели его в норму, и он пригласил меня заходить еще. Он сейчас на десятой койке в отделении реанимации. Вместе с ним Гейл и дочери. Очень милая медсестра по имени Джеймс – ярая патриотка Норвича. На голову Ф. Г. надели пластиковый пузырь, для того чтобы облегчить ему дыхание. К руке у него подключены какие-то трубки. И все равно выглядит он гораздо лучше, чем я ожидал. Болтливый, смешливый и вообще полностью в порядке, если не считать одышки, когда он пробует двигаться. Я попросил его больше так никогда не поступать. А как? А вот так – делать вид, что ты помер, когда ты еще живой. Впрочем, когда девочки вышли попить чаю, он сказал, что все равно у него счет уже идет не на недели, а на дни. Я побыл с ним где-то около часа, и временами было такое впечатление, будто он вовсе и не собирается умирать. Так только – просто повод поболтать. И не первый раз я уходил от него, размышляя, увижусь ли с ним еще раз. Когда я пришел домой, стал писать в своем блоге о делах в Греции, о велотурнире, но на душе у меня было тяжело. Пришлось потом выйти в пивную „Портленд“, провести викторину. Это меня как-то развлекло, но по дороге домой тоска снова вернулась ко мне».
После того как ушел Аластер, мы сидели вокруг папы, болтали, смеялись и строили разные планы. Такой близости, как в этот день, у нас не было никогда. Папа все повторял: «У нас классная семья, и здорово, что мы вместе». Он смотрел на нашу компанию и улыбался. Ему всегда нравилось, когда мы собирались вместе, когда можно было почувствовать семейную близость.
А сердцем этого была мама. Я всегда знала, что она сильный человек. Как любил говорить папа, она у нас настоящая сила природы. Она очень выросла за последнее время. Она нежно любит и опекает и Грейс, и меня, а для папы она настоящая опора. По мере того как папино тело перестает ему служить, она становится его дополнительными конечностями. Папа сейчас не может расслабиться, пока не увидит ее рядом. Он оглядывается на нее, когда ему нужна помощь в отношении врачей, доверяет ей говорить за него, когда сам уже не может. Это настоящее чудо – сила ее любви придает ей фантастическую выносливость. А с другой стороны, она ищет поддержки у Грейс и у меня, чего раньше я за ней никогда не замечала. Мы стали единой командой.
Как мне кажется, папа сейчас существует в двух плоскостях. На глубинном, внутреннем уровне он осваивается в этой новой для него ситуации. А на уровне более непосредственном он привыкает к новым ограничениям в телесном плане и к тому, что обезболивающие несколько повлияли на работу его мозга. Он часто сейчас переходит на повышенные тона, а некоторые его эскапады способны довести нас до истерики. Так, в среду он посмотрел на нас и сказал: «Гляньте-ка, у нас тут новый состав – три „джи“. Моя малышка Грейси, нападающий, – левый фланг. Джорджия – это Бобби Мур, душа и сердце нашей команды. А мама – это Алекс Фергюсон».
После обеда мы с Грейс вышли на улицу, чтобы оставить родителей наедине друг с другом. Мы зашли в суши-бар и чувствовали себя за пределами больницы как-то странно и беззащитно. Мы купили папе маленького льва и карточку со словами «Самый лучший из всех пап». Еще мы купили диктофон, он пополнил груду вещей, о которых папа нас просил, но которыми так и не воспользовался.
Помню, вечером я объявила, что это самый счастливый день в моей жизни. Вся семья посмотрела на меня, будто я ляпнула что-то не то. Но я именно так и чувствовала.
Мы отступили от той точки, где царил абсолютный страх. Теперь папа говорил, что когда момент смерти уже точно определен, время теряет значение. Когда не планируешь никаких дел на завтра, время начинает ходить по кругу и человек становится властелином текущего момента. И этот момент может длиться вечно.
Когда папа сказал эти слова, я, помнится, подумала: «А для нас, для всех остальных, время продолжает свое движение. Папа, нам приходится думать о будущем, в котором тебя уже не будет». Я подумала о предвыборных кампаниях, которые пройдут без его участия, о моих поклонниках, с которыми он уже не познакомится, о моих детях, которых он уже не увидит. Но как бы то ни было, многое переменилось в тот вторник, когда мы вместе поглядели в глаза смерти.
Последние несколько дней были самыми длинными в моей жизни. Каждый разговор, каждая улыбка обретали новое значение. Такой боли и такой радости, как в эти дни, я не испытывала никогда. А в среду я поняла, как нам повезло, что мы получили эти несколько дней, и я знала, что папа думает точно так же. Он пролистал оставшиеся дни, пересчитал их все и подумал, что, пожалуй, уже хватит. Времени хватило на все – и чтобы уладить все дела, и чтобы дописать книжку, и чтобы со всеми попрощаться.
Мой папа был настоящим стратегом. Ему нужна была власть над собственными планами, право выбрать свою смерть. О своем состоянии он знал все. Его не привлекали возможности отвлечься от происходящего. Он не хотел играть в прятки. Он задавал вопросы, анализировал и постоянно пересматривал свою ситуацию. А в последние дни он отслеживал свои медицинские показатели. Это как в день выборов непрерывно следить за данными экзит-поллов – какие там у меня шансы?
Безусловно, он не хотел умирать. Ему еще было что сказать, что сделать, что дать. Жизнь он любил глубоко и страстно. Выбирая стихотворение, чтобы прочитать на похоронах, я нашла «Песню жизни» Амелии Джозефины Барр, которая выражала папину жизненную позицию: «Я так любила жизнь, что умираю без сожаления».
Это не была мирная кончина человека, который под занавес уверен: он сделал все, что ему было отпущено. Папа по достоинству оценил насыщенность бытия на Территории Смерти, как он это назвал, именно потому, что он принадлежал к числу тех, кто отчаянно любит жизнь. Он нашел способ разрешения этого пара докса: черпать силы в лицезрении смерти, не обесценивая жизнь, которую ему пришлось оставить.
Поглядев на нас, он сказал: «Девочки, осталось четыре дня, чтобы собраться с силами и изменить мир. За четыре дня можно многое сделать!»
Примерно в одиннадцать он уснул, и мы остались втроем – усталые, но почти счастливые. В доме было как-то пусто, и мы уснули отнюдь не сразу.
Четверг, 3 ноября
В четверг Грейс с мамой приехали в больницу очень рано. Грейс нужно было уходить через пару часов, потому что начиналась ее смена, а к папе должны были прийти Мэтью Фройд и профессор Каннингем. Когда я пришла, мама уткнулась в свой смартфон, а папа отдыхал, устав от утренних мероприятий. Мама всегда находила время для работы, выкраивала часок-другой, пока папа спал. Она держала руку на пульсе даже в те дни, когда жизнь вокруг нее буквально разваливалась на части.
Папа долго беседовал с Мэтью, и я знаю, что это для него значило очень много. Папа любил Мэтью как члена семьи.
По словам мамы, папа рассказывал профессору Каннингему о том, что у него теперь появилось еще одно подтверждение приближающейся смерти – это были сны, такие, каких он раньше никогда не видел. Он был потрясен богатством увиденных во сне картин – прекрасный город, состоящий, как в калейдоскопе, из разных красок, живописи, драпировок и зданий. Эти неосязаемые картины перемежались периодами полной черноты. Каким-то образом смерть передавала ему свой зов.
Я пришла со статьей, которую написала в местную газету, и папа сразу же ожил. Он был нашим фанатом во всех начинаниях, гордился нашими достижениями, а все провалы объявлял просто хорошими уроками. Целых сорок минут он внимательно разбирался со статьей. Но тут у него снова возникли проблемы с дыханием – даже невзирая на помощь дыхательного аппарата. Мы постарались его убедить, чтобы он не слишком много говорил. Но он не переставал сообщать всем, кто бы к нам ни заходил: «Вот моя дочка, а вот ее статья».
Я вышла из комнаты, чтобы не мешать медсестрам переместить отца с кушетки в кресло. Когда я вернулась, он сидел, довольный собой. Сказал, что придумал смешную шутку. Привстав в своем похожем на пузырь шлеме, он сказал: «Человечество сделало еще один шажок». Его позабавила аналогия с известными словами одного из астронавтов. В последние дни он очень часто улыбался и смеялся, заражая нас своей веселостью. Да, ему было и больно, и очень не по себе, но его дух превозмогал все.
Мама вышла по делам, так что я смогла провести наедине с папой еще пару часов. Через шлем просачивался воздух, обвевая его лицо, и это ощущение вызывало у него клаустрофобию. В то же время без этого наддува ему сразу становилось трудно дышать. Я видела, как на лице у него появляется напряженное выражение, когда параметры на экране доходят до опасной границы, хоть он и старался не подавать вида.
Слава Богу, при нем была отличная медсестра, которая не позволяла ему волноваться, опекала его и помогала расслабиться. Когда он спал, она делала записи в блокноте, выспрашивая у меня, что ему нравится, а что нет. Совсем недавно папа провозгласил на всю комнату: «Любовь, которую ты принимаешь, равна любви, которую ты даешь». Это была цитата из битловской песни «The End» из альбома «Abbey Road». Сестра не преминула записать эти слова как лозунг дня.
Сестры, которые ухаживали за папой, постоянно сменялись, и все они были очень разными. Помню, папа записал, что болезнь изменила его взгляды на вопрос лидерства, что он на своем онкологическом пути снова и снова получал поддержку из самых неожиданных источников. Ни одну из медсестер, которых мы видели за эти дни, нельзя было бы упрекнуть в несоответствии стоящей перед ними задаче. Они работали час за часом, не позволяя себе расслабляться. У них всегда наготове была улыбка, ласковое слово, и благодаря их заботам мы чувствовали себя как дома. Перед нами прошло множество людей, но каждый казался давним знакомым. Похоже, в уходе за папой участвовала целая армия специалистов. И все они заботились об удовлетворении его потребностей не меньше, чем мы. Это выражалось, например, в том, чтобы надеть ему очки и снять их, не мешая процессу дыхания. Они даже придумали тоненькую длинную соломинку, которая позволяла пить, не создавая дополнительной утечки воздуха.
Во главе этой команды стоял доктор Карр, руководитель отделения реанимации, который, похоже, никуда не отлучался даже на сон. По-моему, это самый лучший человек в NHS. Он поддержал в беде нашу семью и сделал терпимыми те дни, которые могли бы стать самыми тяжелыми в нашей жизни. Я знаю, что папе нравился дух товарищества, царящий среди медицинского персонала. Он всегда подпитывался энергией от окружающих людей и легко расслаблялся, когда чувствовал, что кто-то заботится о его безопасности. Медсестры ночных смен заслуживают особой благодарности за то, что помогли ему пройти через самые темные часы во всех смыслах этого слова.
В этот вечер врачей очень беспокоило папино дыхание, связанное с ним напряжение и те муки, которые он переживал. Я заметила, что медсестра вечером следила за всеми параметрами с особой бдительностью, и врачи решили довести эффективность поддержки дыхания через посредство аппарата до максимальной. Это было все, что они могли сделать, хотя было видно, что легче ему не становится. Оставалась еще смутная надежда, что ситуация повернет вспять, но эта надежда таяла у нас на глазах.
Пришла после работы Грейс. Она была очень не в духе. Она говорит, что помнит, как отец посмотрел на нее.
«Что у нас не так, Грейси?»
«А как ты сам думаешь, что у нас не так, папа?»
Мы с Грейс вышли, чтобы купить чего-нибудь на ужин, и, будучи немного не в себе, затеяли перепалку, хотя нам давно уже пора было вернуться. Когда мы выходили из больницы, нам сразу становилось хуже. Неопределенность заставляла нас все время ощущать себя в подвешенном состоянии. Каждый телефонный сигнал наполнял душу ужасом. И мама, и Грейс отвечали на все звонки одним и тем же испуганным, нетерпеливым тоном: «Что случилось?» Я знаю, что и мой голос звучал точно так же. В комнате всегда было спокойнее, когда мы видели работающий дыхательный аппарат и знали, что все под присмотром.
Папа очень устал и проспал почти весь вечер. Четверг нам дался очень дорого, и мы снова готовились к худшему.
Потом как-то мама сказала, что в эти последние дни папино поведение было несколько противоречивым. Безусловно, временами на него накатывали страх и чувство неуверенности. Он до конца боролся со смертью. Но, с другой стороны, в глубине души он принял то, что с ним происходит, с полным смирением и прямо глядел в глаза судьбе. Ему было очень важно ощущать себя хоть при каких-то полномочиях. У него был транквилизатор, спрятанный в одной из книжек, и он считал его чем-то вроде спасательного жилета. Он всегда был под рукой. Под конец он не мог бы его принять самостоятельно, но все равно, имея такую возможность, он чувствовал себя защищенным перед ополчившимися против него враждебными силами. Это помогало ему сохранять спокойствие.
Пятница, 4 ноября
В пятницу утром мама пришла очень рано, чтобы застать доктора Карра во время утреннего обхода. Он ясно дал понять, что теперь осталось три – пять дней и воспаление уже не погасить. Помню, что я пришла сразу после этого разговора, и папа беспокоился, скажет ли мама это мне. Но говорить ничего было не нужно. Я уже знала, что дело идет к самому худшему.
Я сходила в магазин и принесла лимонного ликера со льдом. Ему это очень понравилось. Он повторял, что ничего лучшего в жизни не пробовал. После каждого глотка он закрывал глаза и улыбался с видом полного блаженства.
За обедом мама сидела в слезах, она уже думала, как же мы будем жить, когда закончатся эти страсти. Я сказала, что мы будем поддерживать друг друга, научимся преодолевать боль, что у нас будут не только черные, но и светлые дни. Я держала ее за руку, чувствуя себя совершенно беспомощной и понимая, что никому из нас нет сейчас подлинного успокоения.
Пришла вся съемочная группа Адриана Стайрна, они принесли десять отпечатков фотографии, где папа снят таким дерзким – рядом со своей могилой. Они хотели, чтобы он их подписал, и робко спросили, можно ли фотографировать, как он будет это делать. Странно было видеть горечь и сострадание на их лицах, когда они увидели папу. Для меня это его лицо уже стало совсем привычным.
Он попытался подписать фотографии, просил, чтобы я опробовала ручки, и очень огорчался, что рука уже не подчиняется его приказам. Занимаясь этим, он совершенно вымотался. Я видела, как волнуется мама, ворча про себя: «И сейчас он не захочет остановиться». Папа с гордостью рассказывал всему персоналу, что эта фотография была сделана на Хайгетском кладбище, где обещали развеять его прах. Медсестры были поражены этой сценой, которая от начала до конца развертывалась у них на глазах.
Чуть позже пришла Грейс, и глаза у него загорелись. Грейс всегда отличалась способностью рассмешить отца, сказать ему что-нибудь неожиданное, отвлечь его от мрачных мыслей. Он попытался поцеловать ее в лоб, но не вышло – этому мешал пластиковый пузырь. Мы все рассмеялись.
Мы с Грейс вышли за обедом, он поглядел на нас так, будто мы больше не увидимся, и сжал мою руку с любовью и нежностью. Он начал фразу: «Я знаю, что в некоторые важные моменты вашей жизни меня с вами не будет…» И мы вместе разрыдались. Он знал, как можно нас зацепить, и любил патетические заявления. Он сказал, что очень нас любит и всегда будет с нами, что наступает наш час, мы на перекрестье дорог, и вот-вот придет время, когда мы засияем во всю силу. Он сказал, что нужно верить в себя, что мы обе – настоящие звезды. Он сказал, что его мать на смертном одре просила его, чтобы он заботился об отце, теперь же он понимает, что нас не надо просить, чтобы мы заботились о матери. Он знает, что мы ее не оставим.
Когда мы вернулись, он пытался печатать на компьютере, с трудом поднимая руки. Мы хотели помочь ему, подложить подушки, но он нам не позволил. Так он и сидел за ноутбуком, казалось, целый час, но набрал всего несколько слов. Он сказал: «С клавиатурой уже не получается, Джорджи». И вот тут я в самом деле не выдержала, спряталась за его постелью и расплакалась, стараясь сдерживать рыдания. Я не могла видеть, как его тело перестает его слушаться. В конце концов он так и уснул – прямо перед компьютером.
Я видела, что у мамы силы уже на исходе, и решила отвезти ее домой, а с папой пока что осталась Грейс. Сестренка была рада побыть наедине с отцом и не допускала мысли о том, чтобы вернуться на работу.
Когда мы уходили, папа никак не мог справиться со своим телефоном. Он пытался ввести пароль, у него не получалось, и он попросил, чтобы мы его удалили. Мы попробовали это сделать, но у нас тоже не вышло, а вдобавок мы в суете поменяли старый пароль на какой-то новый. Мы написали для него новый пароль на бумажке крупными буквами, но он только посмотрел на нас с осуждением. Действие обезболивающих становилось все заметнее. Видя это, он смущался, но каждый раз, почувствовав с нашей стороны покровительственные нотки, тут же ставил нас на место. Он уже не так ясно, как всегда, воспринимал окружающий мир, но его интеллект был все еще силен, и сознание не покидало его ни на минуту.
Я хорошо помню эту ночь, когда мы уже знали, что ситуация становится все хуже и хуже, и ощущали, как в груди раскрывается глубокая пропасть непреходящей печали. Но в то же время, когда я перебираю в памяти обстоятельства того дня, вглядываясь в каждую мелочь, я испытываю ощущение подлинной радости и тепла.
Суббота, 5 ноября
Мы пришли в больницу очень рано. Папа спросил, сколько дней ему еще осталось, как бы включив «обратный отсчет». Он полагал, что по самому пессимистическому сценарию это будет три дня. Мы огорчили его, сказав, что три было вчера, а сейчас остается два. У него на лице была написана обида, что один день у него отняли. Ему нужно было больше времени.
Он обождал, пока мама выйдет из комнаты, и попросил меня разобраться в его бумагах. Он хотел убедиться, что книга закончена и что все его соратники по лейбористской партии приглашены на похороны. Он хотел, чтобы в церкви было много народу, и попросил меня, чтобы я привлекла к организации этого дела Маргарет Макдонах.
Пришла его сестра Джилл, и они прощались без свидетелей. Оба они – очень независимые личности, склонные идти своими собственными путями, но я знаю, что наступившее в последние месяцы сближение между ними принесло ему огромное облегчение. Она была священником англиканской церкви, так что имела полномочия на проведение религиозного ритуала.
После этого Грейс, сидя рядом с ним, помогала ему рассылать эсэмэски. У него уже было совсем плохо с координацией движений, и тексты, которые он набирал собственной рукой, читать было просто невозможно. Мы видели, как он пытается отослать Эду Виктору такой текст: «Это лучшее время, это худшее время». Я даже не знаю, понимал ли он в тот момент, что набирает цитату из Диккенса. Потом Аластер рассказывал, что получил от Питера Хаймана недоуменное послание: «Что он хотел сказать, прислав мне только цифры „3–5 дней“?»
А потом вдруг взгляд его стал сосредоточенным и решительным.
Он понимал, что время стремительно утекает между пальцев и от него сейчас требуется использовать все оставшиеся возможности. Главное дело, которое у него висело над душой, – это его книга. Он был убежден, что общепринятые представления о смерти не соответствуют истине, что время умирания – это время счастья и грандиозного личностного роста. И его охватил порыв именно сейчас это всем сообщить, зафиксировать эти мысли на бумаге.
Он пытается стучать по клавиатуре, у него ничего не получается, и он начинает диктовать маме. Это настоящая пытка. Мама помогает ему, потому что для него это очень важно, но она ненавидит каждую секунду этого процесса, считая, что он подрывает последние папины силы. Грейс отмечает про себя его почти одержимый вид с покрасневшими полузакрытыми глазами и хриплым голосом. А он говорит и говорит. Мама пишет страницу за страницей. Он полностью ушел в себя.
Меня гложет невыносимая боль, я слышу, как он с муками выговаривает каждое слово, и его голос становится похож на глухой перекатывающийся рокот.
Когда дело дошло до последней черты, папе уже было мало собравшейся вокруг него семьи, хотя я знаю, что она воплощала для него целый мир. И все равно самым главным для него оставалось его личное предназначение, его стремление придать смысл процессу умирания. Поэтому последняя книга значила для него так много. И вот он добывает откуда-то, явно не из собственного тела, последнюю вспышку энергии и берется записать прощальные слова. Несколько недель у него не было сил, чтобы заняться этим вплотную, но теперь он понял: или сейчас, или никогда. Он стоит перед лицом смерти и готов преодолеть все препятствия, чтобы понять ее смысл.
Входит врач. Он обеспокоен папиными показателями и говорит, что сейчас ему лучше было бы помолчать, но папа полон решимости.
О грядущей смерти мы оповестили лишь узкий круг. Нам не хотелось, чтобы толпа папиных друзей прошла вместе с нами через все эти муки. Но теперь я понимаю, что кое-кто должен об этом узнать. Я решаю позвонить Питеру, его старому другу еще с университетских времен (сейчас он живет в Бостоне, штат Массачусетс). Включив связь, он говорит: «Джорджия, прости. Подожди, я спущусь со стремянки». Когда он уже стоит на полу, я объясняю ему, что случилось. Я слышу потрясение в его голосе. Он, как и все мы, думал, что времени будет больше.
А папа продолжает диктовать. Наконец он доходит до точки и с чувством удовлетворения оглядывает нас, ожидая похвал. Он повторяет одни и те же слова: «Неплохо сегодня поработал». Мы просим его успокоиться.
«Queens Park Rangers» собираются играть с «Manchester City». Я включаю этот матч на канале «Sky Sports». Еще с тех пор как мне было шесть лет, у нас имелись сезонные клубные билеты «Queens», и мы езди ли по всей стране, чтобы смотреть их матчи.
Папа приходит в восторг: «Смотрите, это же Нил Уарнок!» Он спрашивает, почему качество изображения здесь лучше, чем когда мы смотрели футбол в Ньюкасле. Мама не одобряет этих забав, и я спрашиваю, не хотел бы он послушать какие-нибудь григорианские псалмы? Он смотрит на меня, как на дуру: «Джорджия, ты же видишь, что я смотрю футбол».
Он пытается вскинуть руки над головой – так же, как делал это дома. Но сейчас они раздуты вчетверо против обычных размеров, а вдобавок от них тянутся разные провода и трубки, так что ему не удается поднять их выше своего шлема-пузыря. Это выглядит очень мило и смешно – привычный, домашний жест в неподобающей медицинской обстановке. «Queens» сравнивают счет, и папины показатели уверенно идут вверх.
Потом он снова падает духом, дышать становится тяжелее, я выключаю телевизор и предлагаю ему отдохнуть. Так он и не увидит, как наша команда проиграла.
От Аластера приходит изумительное письмо. Мы зачитываем его, обливаясь слезами, а папа, спокойный, как никогда, тычет пальцем в экран своего ноутбука и говорит: «Похороны, похороны».
Он говорит, что дышать стало тяжелее, и сестра прибавляет подачу лекарств. Вдруг он заявляет: «Все, кончено», – и мы впадаем в панику. Потом, после паузы, он завершает фразу: «Кончено. Я закончил свою книгу».
Он делает вдох, будто ему не хватает воздуха. Грейс и мама стоят, поддерживая друг друга, у Грейс от слез глаза расширенные и блестят. Мама смотрит на отца с невыразимой нежностью.
На минуту он засыпает, потом просыпается и с некоторым смущением говорит: «Стало тяжело дышать. Долго не протяну. Пора отчаливать». Сейчас он уже не такой оцепенелый, как в прошлый раз. Он взял себя в руки, он готов. Он оглядывается и не видит меня, потому что я стою с другой стороны.
«Где Джорджия?»
«Здесь, папа», – говорю я.
Он сжимает мою руку и советует всем пересмотреть «Подвиг странствия», имея в виду главу из книги. Всем по очереди он говорит: «Спокойной ночи, я тебя люблю». Потом он ненадолго засыпает, затем просыпается и повторяет весь ритуал с начала.
Он настаивает на том, что нам уже пора спать, что нужно вызвать такси и ехать домой. Он зовет дежурную сестру и просит ее: «Эбони, пожалуйста, переложи меня в койку». Мы говорим: «Папа, ты уже в постели», но он нас не слышит.
Потом он говорит: «Пора отчаливать, со мной покончено», – и сразу же крепко засыпает.
Боится ли он? Насколько он понимает всю ситуацию? Я ничего не знаю наверняка, но помню, как много лет назад на каком-то лейбористском мероприятии Аластер процитировал одного американского футбольного тренера: «Я твердо верю, что у любого человека высший час, час полного удовлетворения наступает тогда, когда, отдав всю энергию борьбе, он лежит, обессиленный, на поле боя… и чувствует себя победителем». И мне кажется, что именно это чувствовал мой папа.
Он боролся изо всех сил, вокруг него собрались все, кто его любит. И теперь он имеет право заснуть.
Потом мама, не сдерживая слез, прочитает нам стихотворение Дилана Томаса[14]: «Не принимай наступление ночи с нежностью… Умирает свет, и это должно вызывать только ярость». Папа не мог уйти в атмосфере нежности. Он должен был уйти, как и жил, полный решимости, осознания стоящей перед ним цели, верности своему предопределению. Уйти в борьбе, сражаясь за каждую секунду.
Медсестра сказала, что нам лучше остаться на ночь, так что, убедившись, что он крепко спит, мы перебрались в соседнюю комнату, специально выделенную для родственников. Сестры пообещали нас вызвать при первой же необходимости.
Мы с Грейс сбегали домой, чтобы прихватить кое-что из одежды и умывальные принадлежности. Перед уходом я сказала маме, что пора бы оповестить всех о том, что происходит. Она сочинила изумительный мейл и разослала его по старому рассылочному списку, даже не интересуясь, кто в него внесен, а кто нет.
Воскресенье, 6 ноября
Мы устроились на импровизированной конструкции из диванов и подушек. Я практически не спала и в стала часа в четыре утра. Видимо, я слишком шумела, поскольку мама сухо посоветовала мне пойти посидеть с отцом.
Так я и сделала, сидела вместе с папой и с медсестрой, а на заднем плане тихонько пел Боб Марли. Сестра проявила максимум заботы, чтобы устроить папу поудобнее, привела в порядок все его трубки и провода. Выглядел он неплохо и крепко спал. Сестра сказала, что около полуночи она перестала давать ему успокаивающие средства.
Час спустя подошли Грейс с мамой, мы все сидели вокруг папы, не очень понимая, почему он не просыпается. Дыхание у него было спокойное, а все показатели на мониторе в норме.
Потом на утреннюю смену заступил молодой врач. Он спросил, не слишком ли много папа разговаривал накануне. Мы сказали: «Да, говорил весь день». Доктор объяснил нам, что сам процесс речи выделяет в кровь немало углекислого газа, то есть папа самостоятельно выработал для себя большую дозу успокоительного, из-за чего и потерял сознание. «Это примерно как отравиться газом в неисправном автомобиле?» – спросила мама.
«Именно так», – ответил врач.
Он сказал, что папа вряд ли проснется в ближайшее время, но он не знает, сколько может продлиться это состояние. Может, часы, а может, и дни. Для нас это не было шоком, а в чем-то здесь можно было увидеть и положительные стороны. Благодаря бескомпромиссному поиску цели он сам привел себя к той мирной, естественной кончине, о которой мечтал. В конце концов он оказался хозяином своей судьбы.
Мы с Грейс сидели за чаем и потихоньку свыкались с фактом, что нам никогда больше не доведется поговорить с папой. И тут Грейс произнесла: «А ты знаешь, что папа тогда должен был бы сказать? Наверняка он бы сказал, что это тот самый мужчина, за которого тебе нужно выйти замуж». Мы обе рассмеялись. Это было его излюбленное высказывание. Если так долго живешь в мире кошмара, начинаешь понимать, как драгоценны и целительны бывают минуты счастья и душевной близости.
Остаток дня мы провели втроем у папиной постели. Я поставила григорианские песнопения, которые он использовал как сопровождение для своих медитаций. В комнате воцарилась умиротворяющая, приподнятая атмосфера. Медсестра вышла, чтобы нам не мешать. Теперь она все равно ничего не могла сделать. Битва закончена. Большую часть медицинского оборудования уже убрали. Настало время для мирного прощания.
Пришли Аластер и Фиона. Аластер обнял нас, он выглядел невероятно значительным. Фиона сказала, что папа всегда был источником живительной силы, что он дал нам очень многое и что мы трое – изумительные женщины.
Приехал Тони. Мы обнялись и рассказали ему о последних днях в больнице и о последнем папином решении. Мы сказали, что папа знал о приближающейся смерти и смело смотрел ей в глаза. Мы оставили их наедине, чтобы они могли попрощаться. Он ушел часов в двенадцать, собираясь еще поговорить с персоналом.
Эбони, медсестра, дежурившая предыдущей ночью, в конце своей смены зашла, чтобы попрощаться. Она сказала, что общалась с папой всего несколько часов, но успела понять, что это замечательный человек, вежливый и добрый даже перед лицом смерти, наделенный вкусом к жизни.
Он выглядел таким сильным, лежа в своей постели, и звук его дыхания сливался с песнопениями, заполнявшими комнату. Я чувствовала, что могу вечно держать его за руку – всегда, пока он с нами. Я чувствовала, какой он сильный и теплый, а его кожа гладкая, как бумага. Его рука осталась как бы последним свидетельством того, кем он был раньше, она существовала отдельно от всего остального, от истощенных плеч и коленей, от предплечья, раздутого до неузнаваемости.
Вошел доктор Карр и сказал, что они могут дать папе «препарат Майкла Джексона» – седативное средство, приносящее чудесные сны. Мы боялись, вдруг он проснется и испугается, так что приняли это предложение с радостью. Он сказал, что сейчас будут постепенно снижать давление в дыхательном аппарате и снимут шлем, чтобы папино дыхание стало более естественным. Мы поняли, что до конца осталось совсем немного. И стали рассказывать папе обо всех лучших днях, об отпускных поездках, о тех местах, которые он любил, о тех моментах, которые для всех нас представляли общую ценность. Мы говорили это в надежде, что наши слова как-то отпечатаются в его снах.
В комнату тихо проскользнул Мэтью Фройд и встал рядом с нами, как член семьи. Некоторое время он провел наедине с папой и уехал часов в пять в слезах.
С папы сняли дыхательный шлем, и он сразу стал выглядеть гораздо более хрупким. Его дыхание, теперь уже хриплое и неглубокое, слышалось короткими судорожными вдохами.
Мы прочитали ему сообщения, которые пришли от друзей, надеясь, что он как-то нас услышит. Мы читали стихи из книжки, которую кто-то нам подарил. В книжке была подборка стихов, посвященных скорби, и некоторые из них прямо выражали наши чувства. Поочередно у кого-то из нас кончались силы, но мы поддерживали друг друга, чтобы не упасть вместе, как костяшки домино.
Примерно в семь вечера приехал Дэвид Каннингем. Он присутствовал при всем папином путешествии, и мы сочли справедливым, чтобы он был свидетелем его конца. Он сказал, что на своем веку повидал много смертей, возможно, даже слишком много, но такой кончины, как у нашего папы, он не видел никогда.
Он всегда знал, что наш папа – выдающийся человек, но в августе, когда папе сообщили о летальном диагнозе, – вот тогда Дэвид по-настоящему понял, какая это замечательная личность. На всем своем пути папа никогда не отворачивался от происходящего, принимал жизнь со смирением и мужеством. Большинству, сказал Дэвид, это не удается, а уж тем более он не видел еще человека, который смог бы это так описать. Наш папа в течение своей жизни совершил немало достойных дел, но последний его подвиг – величайший. Своей силой, своими мужественными установками он содействовал перерождению многих людей, в том числе и самого Дэвида.
И вот остались только мы вчетвером.
Я держу папу за левую руку, а Грейс за правую. Мама обнимает его за шею, прижавшись к его груди. Григорианский псалом заполняет всю комнату, и когда звучит его последняя нота, папа вздрагивает и испускает дух.
И вся комната в ту же секунду наполняется чудесной энергией. Мама испытывает прилив радости. Всхлипывая, она повторяет с изумлением: «Филип, я и не думала, что это будет так прекрасно».
Мне кажется, что у меня из груди вырвано что-то огромное и важное. Грейс вышла, чтобы позвать доктора.
Жизнь очень быстро утекает из папиного тела. Исчезает тепло, цвет лица, ритм дыхания. Несколько секунд, и его тело уже холодеет и приобретает меловую белизну. Ни у кого нет сомнения – да, он упокоился. Осталась одна скорлупка, которая на него даже и не похожа. Разница между смертью и хотя бы тоненьким ручейком жизни оказалась просто неизмерима. Та любовь, та страсть, тот дух, которые определяли его личность, сейчас пребывают где-то в иных мирах.
Мы в последний раз целуем его в лоб. Мы не хотим его покидать, но остаться тоже нельзя. Мы выходим из реанимации, и нас утешает мысль, что его смерть была именно такой, как он хотел, в полном умиротворении и в кругу любящей семьи.
Мой папа
Когда я была младше, отец для меня являлся сущей загадкой. Он был каким-то экзотическим удовольствием, приезжал и уезжал, привозил нам из своих путешествий разные безделушки и футболки с политическими лозунгами. Он входил в гостиную, хлопая дверью, и наполнял своей энергией весь дом. В выходные мы его холили и лелеяли. Мы играли с ним в разные игры, прятали от Джорджии ее плюшевых медвежат, придумывали разные приключения и доставляли маме кучу хлопот.
После 2005 года папа переменился. Он вернулся домой и как-то крепче укоренился в нашей жизни. Для нас с папой это время ознаменовалось началом нашей дружбы. Мы делили жизнь на две категории: на то, что нас развлекало, и то, что было неинтересно. К первой категории относились поклонники Джорджии, а все из второй категории мы просто игнорировали.
Нас увлекали самые разные вещи. Я научила его пользоваться BBM[15], ему полюбилась эта забава, и он стал засыпать меня веселыми историями или сплетнями про Кит Мосс[16].
Он ходил со мной на какие-то мутные конференции по охране окружающей среды. А в четыре часа вечера мы любили ходить в кино, перекусив в какой-нибудь веганской китайской забегаловке. Самое смешное похождение было, когда папа отправился со мной в Гластонбери[17] и купил даже специально для этого новенькую парку. Проведя ночь в палатке, на следующий день он снял номер в ближайшей гостинице.
Разумеется, в те годы я была ужасным тинейджером, а описанные причуды представляли собой часть стратегии в духе Йоды[18] – найти подходы к юной дочери, которая не могла назвать больше трех членов кабинета министров, не говоря уж об игроках «QPR». Но папа смог это сделать, и у нас с ним было о чем поговорить.
Когда папа заболел, он переменился еще раз. Он смягчился, его энергия из прежней взрывной формы перетекла в форму сдержанной силы. Свою энергию он направил на задачу выжить, а потом на задачу научиться правильно умереть. Наши отношения тоже изменились. Наша непочтительность, адресованная жизни вообще, теперь была направлена на его болезнь.
Я почувствовала, что за это время мы с папой сильно сблизились. Мы открыто говорили о его смерти, о похоронах, о том, каким будет наше будущее без него. Он говорил о своем чувстве незащищенности, о симптомах и страхах. А когда позволяла ситуация (и это бывало не очень часто), мы шутили над всякими абсурдными моментами, которые пришли вместе с его болезнью.
Вряд ли я единственный человек, растерявшийся перед перспективой дальнейшей жизни без нашего папы. Для очень многих он был первым, кто готов поддержать в трудную минуту. На папиных похоронах его близкий друг Норина рассказывала, как папа проводил заседания, как пропускал через себя череду людей, пришедших за советом. Я никогда бы не осмелилась сказать это папе, когда он был жив, но ведь он действительно обладал фантастическим даром видеть, что происходит, говорить, что тебе следует делать, и убеждать тебя, что, если ты это сейчас сделаешь, все будет о’кей.
Прежде чем отправиться в Ньюкасл, он написал мне и Джорджии письма, которые нужно было прочесть после его смерти. В этих письмах он преподал нам пять жизненных правил. В моем письме были такие слова:
Я знаю, что ты хотела бы получить от меня ответы на все вопросы, скрытые в будущем, но я не могу этого сделать. По крайней мере, я не могу это сделать в той форме, в какой ты ожидаешь. А могу я сделать следующее: сказать, что, если ты останешься самой собой, будешь верить в себя, доверять себе, с твоей жизнью все будет в порядке. А что касается всего остального, то просто будь великодушной и доброй. И не забывай посылать открытки с благодарственными словами. Это все, что тебе требуется знать. Если же вдруг окажешься в тупике, обратись за советом к Мэтью. А если и он не сможет ответить, спроси вселенную. Уж там ответ наверняка имеется, и я уверен, что ты его найдешь.
Послесловие
Филип никогда не болел. Похоже, его целеустремленность и решительность беспардонно господствовали над всеми возможными телесными проблемами. С другой стороны, это не мешало ему на всякий случай держать дома целую аптеку. Даже забавно – он всегда боялся заболеть, но реально никогда не болел. И так было до самого отпуска в Бразилии на Рождество 2007 года, когда его застарелые проблемы с глотанием и несварением стали более ощутимы. Именно тогда я в первый раз подумала, не кроется ли за этим что-то серьезное.
Когда мы вернулись в Лондон, он прошел небольшое обследование, и все вроде было хорошо, но потом он вдруг как-то проснулся в три часа ночи с ощущением, что заболел. Он был белым, как простыня, и ужасно напуган, так что я подумала, что у него сердечный приступ, и вызвала «скорую». Мы приехали в больницу Университетского колледжа и сразу отправились в отделение неотложной помощи, но там никаких сердечных недугов не нашли. В конце концов объяснили все это обезвоживанием, и никому не пришло в голову, что на стыке пищевода и желудка у него уже росла огромная опухоль.
Глядя на четырехлетнюю историю этой болезни, я вижу ее чем-то вроде фотоальбома со снимками, отражающими моменты напряженности, страхов и восстановления после них. Когда я пришла, чтобы забрать его после эндоскопии, он лежал плашмя и лицо у него было пепельного цвета. Он просто сказал: «У меня рак, и дело плохо». Врач оставил ему 50-процентную вероятность выжить.
В эту секунду мир действительно переменился, а меня накрыла волна ужаса. Я еще никогда не слышала о раке пищевода, даже и не знала, что его распространение приобрело эпидемический характер и что без хирургического вмешательства это заболевание вообще не лечится. Я помню, как бежала по больнице в поисках хирурга, которого пригласили, чтобы он посмотрел на опухоль, как умоляла его заместителя, чтобы нас приняли на следующий день.
На первом этапе мы были в замешательстве, потрясении и отчаянных поисках дополнительной информации. Мы уже знали, что нас ждет трехмесячная химиотерапия, но при этом понимали, что она является чем-то вроде генеральной репетиции перед хирургическим вмешательством. Именно тогда и решится: быть или не быть.
Перед нами стояло ответственное решение – выбор подходящего хирурга и хорошей клиники. В некотором смысле, эта роскошная привилегия, право выбора, и стала причиной нашей гибели. Если бы мы просто обратились в местную больницу, где Филипу без затей полностью удалили бы весь пищевод, вполне возможно, он был бы сейчас жив.
Знали бы мы тогда о профессоре Майке Гриффине, создавшем в Ньюкасле клинику мирового класса, все тоже повернулось бы совсем по-другому. Но мы тогда не располагали никакой информацией о продвинутых онкологических центрах где-либо в Великобритании, и почти все авторитеты среди практикующих медиков и правительственных чиновников единогласно указали нам на Америку.
Филип любил ездить в Америку. Я к этому была менее привычна, меня смущали не столько медицинские проблемы, сколько бытовые. Я понимала, что значит приходить в себя после такой серьезной операции, если тебя не окружают семья и друзья. Однако после ознакомительной поездки мы все-таки остановились на Америке.
Масштаб Онкологического центра памяти Слоуна – Кеттеринга, высочайший уровень компетентности, установленный как норма в этой больнице, – все это не могло не внушать уважения. Тем не менее, когда Филип исчез за дверьми операционной, мне пришлось сидеть семь часов в кафе поблизости, не имея никакой информации о том, что там происходит. Это были самые долгие семь часов в моей жизни. Я по пыталась успокоить нервы, заходя в молитвенные помещения всех основных религий, раскиданные по кварталам вокруг онкоцентра, но вместо религиозных чувств меня не отпускали мысли о самой худшей развязке.
В конце концов мне сказали, что операция завершена и что с Филипом все в порядке. Это было как дантовы круги ада, но только в обратном порядке. Пару часов мне пришлось просидеть в комнате ожидания рядом с реанимацией, пока хирург не смог наконец меня принять.
Мюррей Бреннан выглядел усталым, его комбинезон был забрызган кровью. Операция прошла удачно, но у него были проблемы со сшиванием того, что у Филипа осталось от желудка. Он сказал, что к концу операции он уже был готов перепилить Филипу ребра, сделать еще один разрез и на открытом поле сшить желудок и пищевод, но в конце концов ему удалось завершить операцию так, как она и задумывалась, то есть в менее травматичном варианте. Что-то меня смутило в этом рассказе. Я никогда не говорила об этом Филипу, но ведь это факт – опухоль возродилась на том же самом месте.
Я вошла, чтобы повидаться с Филипом, которого нашла в прекрасном состоянии. Он был накачан лекарствами, полон энтузиазма, рвался позвонить дочкам в Лондон. Они были так счастливы, и мы вместе ощутили облегчение после двадцати четырех часов, которые провели в неведении. Правда, на следующий день Филип был бледен, как покойник. Он лежал в маленькой двухместной палате, отделенный от соседа тонкой занавеской, чувствовал себя очень плохо и не мог говорить. Борьба за жизнь оказалась настоящей битвой, и сейчас она развертывалась на чужой территории.
Постепенно Филип начал поправляться, стал понемножку что-то есть, но один из швов вдруг воспалился. В этой больнице, опасаясь MRSA (золотистого стафиллококка), не приветствовали использование антибиотиков, так что было решено оставить рану открытой. Так и сделали. Зияющая глубокая полость, превратившаяся потом, после излечения, в большую грыжу, стала уродливым напоминанием о том, что пришлось пережить, и о том, что нас еще может ждать.
Впрочем, анализы были хорошими, и на моем мобильном до сих пор хранятся поздравительные эсэмэски от британских врачей, уверяющих, что теперь для нас все позади.
Оглядываясь на тот нью-йоркский период, я удивляюсь, как же мы справились, когда обе девочки были в университете, причем Джорджия готовилась к выпуску, а Грейс училась на первом курсе. Я работала в нашем нью-йоркском офисе, где издательство «Random House» предоставило мне все возможности, позволявшие справляться со своими ежедневными обязанностями в перерывах между визитами в больницу. Мой друг Эд Виктор любил говорить, что, единожды получив такой диагноз, ты поселяешься на Планете Рака. Заболевание Филипа стало новым центром притяжения в моей жизни. Это был такой длинный остров, который с одной стороны омывали семейные хлопоты, а с другой – служебные заботы.
Мы вернулись в Лондон, чтобы продолжить химиотерапию, и вот здесь, слава Богу, мы познакомились с профессором Дэвидом Каннингемом, который служил в больнице Марсден. Филип писал об этом чудесном учреждении, но что там было важным лично для меня, так это атмосфера заботы и нежности, благодаря которой все онкологические муки становились несравненно более терпимыми.
Так, к несчастью, сложилось, что одна моя хорошая подруга в это время тоже переселилась на Планету Рака и, после проведенной в больнице Сент-Мэри операции по поводу опухоли молочной железы, тоже оказалась в Марсдене для курса химиотерапии. Я все время бегала по больнице, навещая то мужа, то подругу, особенно в моменты кризиса. Филипу тяжело давалась послеоперационная химия, и у меня осталась фотография с того времени. Там он сидит с капельницей в кресле, углубившись в свой «блэкберри», не способный говорить и едва держащий себя в руках.
Моя подруга переносила химию значительно легче, если не считать одного неприятного эпизода, когда ее пришлось госпитализировать. Я не сводила вместе ее и Филипа, хотя они регулярно заочно отчитывались друг перед дружкой в своих успехах. Всего один раз она к нам зашла, и я увидела их рядом – исхудалые, хрупкие, практически лысые. Мне было просто невыносимо видеть, что два самых близких человека могут быть отняты у меня одной и той же болезнью[19].
Среди всех этих несчастий выдавались иной раз и светлые моменты. После завершения химии Филип просто горел желанием куда-нибудь уехать, однако врачи запретили нам летать на самолете, так что мы решили поехать в Европу на поезде. Нашей целью была Венеция – ее Филип любил больше всего на земле. И это было, как сказал Филип, буквально переселением из мрака в свет.
Стоял август. Мы жили в отеле «Cipriani», и это был, пожалуй, наш самый идиллический отпуск. Филип заявлял, что теперь он может есть, только если ему подают идеально приготовленные итальянские кушанья. Подобно парочке неопытных туристов, мы в основном держались неподалеку от отеля. Как-то утром за завтраком я заметила, что снаружи пришвартовано слишком уж много лодок. Размышляя, с чем это связано, мы заметили за соседним столиком Брэда Питта и Джорджа Клуни. Оказалось, мы попали в Венецию в самый разгар кинофестиваля.
Жизнь вошла в свое русло. Если не говорить о венецианских угощениях, есть Филипу становилось все труднее, и прием пищи для него стал регулярной мукой. Я заботилась о том, чтобы организм Филипа получал хоть какие-нибудь питательные вещества, в то время как сам он обращался теперь с едой, как капризный ребенок.
Пока рак не вернулся, мы успели еще раз съездить в отпуск. На этот раз в Иорданию. Это был эксперимент. Хоть я и запланировала множество экскурсий, в момент отъезда мы отнюдь не были уверены, что Филипу это будет по силам. В конце, когда мы отправились в Петру, Филип выразил сомнение, сможет ли он выдержать автомобильное путешествие. Однако он не просто выдержал его. Увлеченный величественными картинами, он смог пройти пешком до Сокровищницы (Эль-Хазна), а на следующий день настоял на том, чтобы мы отправились в заброшенный замок крестоносцев.
Это были чудесные минуты радости и освобождения. Было ясно, что болезнь серьезно изувечила Филипа, но сейчас он решительно нащупывал новые границы своих возможностей в надежде, что ему удастся вести хоть какое-то подобие нормальной жизни.
В определенном смысле мы стали гораздо ближе друг к другу, чем раньше. Вместе мы прошли через ад и вышли на свободу с другой стороны. Мы провели всю нашу жизнь в напряженном труде, исполняли множество разных обязанностей, заботились о дочерях так, как только могут работающие родители. Мы всегда надеялись, что придет время, когда мы исполним родительский долг, отработаем свое и сможем наконец вместе провести в праздности старость. И мне показалось, что рак способен разрушить это будущее. То, что Филип сумел выжить, мне казалось сущим чудом, а этот отпуск я воспринимала как Божью благодать. Правда, это чудо длилось совсем недолго. Узловые моменты в болезни Филипа часто совпадали с напряженными полосами у меня на работе. Все эти деловые проблемы могут показаться чепухой на фоне вопросов жизни и смерти, но воды, омывающие с обеих сторон Планету Рака, продолжают течь. Бывали ситуации, когда я работала только ради исполнения долга, но большую часть времени работа для меня оказывалась отдушиной, оазисом нормальной жизни.
Я приехала в Нью-Йорк всего за день до операции, поскольку мне обязательно нужно было появиться на одном совещании в Берлине. А два года спустя, именно в тот день, когда нам был назначен визит в Марсден, где мы должны были услышать о решающих результатах анализов, я устраивала ланч для одного американского автора. Он приехал в Лондон всего на день и был несколько удивлен тем, что я ушла с ланча слишком рано.
В тот день я вышла из-за стола в растрепанных чувствах. Тот трепет, с которым ждешь результатов, знаком каждому обитателю Планеты Рака. Это вопрос жизни и смерти, а в истории с Филипом мы всегда заранее чувствовали, когда нужно ждать дурных новостей. Так и на этот раз. Рак вернулся к своей жертве. И все наши мечты развеялись за один вечер.
Мы знали, что все меры уже исчерпаны. Филип испробовал разные виды химиотерапии, но пользы было мало. Единственный шанс давала хирургическая операция.
Сначала в Марсдене нам советовали вернуться для этого в Америку, к тому же самому хирургу, поскольку ему лучше знать, что он там наделал. И тут я в первый раз решительно вмешалась. Я не хотела больше видеть эту американскую клинику, ее организационные заморочки, холодность в обращении с пациентами. Мюррей Бреннан был готов провести вторую операцию, он хотел делать ее на пару с коллегой, поскольку предвидел, что работа будет очень сложной. Но и это мне уже виделось как негативный фактор. Я не была уверена, что мы с мужем сможем это вынести еще раз.
Я спросила Дэвида Каннингема, нет ли чего-нибудь ближе к дому. Мы собирались повидаться с одним из хирургов в Марсдене, однако профессор Каннингем объяснил, что мало кто возьмется за эту вторую операцию. И вот тут он упомянул Майка Гриффина. Филип рассказал о долгих переговорах и о той настороженности, с которой его встретили в Ньюкасле. Я приехала туда, чтобы забрать Филипа после первого обследования, и это была всего лишь первая из многих наших поездок по Северо-Восточной железной дороге.
Профессор Гриффин держался открыто и избегал двусмысленностей. Да, он согласен провести операцию, но он хотел бы, чтобы мы, и в частности я, были полностью осведомлены о реальной опасности. Я прилежно записала все это на листке бумаги, который выглядел как список покупок для магазина ужастиков. В конце концов мы приступили к делу. Мы переехали в Ньюкасл, сняли квартиру в центре на Грей-стрит. Квартира, как я дразнила Филипа, полностью соответствовала картинкам из таблоида «Жены футболистов». Вечером перед операцией мы выбрались поужинать, и я была настолько не в себе, что забыла сумочку в ресторане.
Еще одна операция, и снова я дожидаюсь в кафетерии. Мое беспокойство было подобно чайнику: мой разум кипел с бешеной силой, и не было никакой возможности выпустить пар. В такой ситуации не остается ничего, кроме как сжать зубы и терпеть изо всех сил.
Операция продолжалась уже пять часов, и я решила выйти погулять. Тут я столкнулась с профессором Гриффином, который вышел из операционной после первого раунда. Прошло еще пять ужасных часов, и только после этого я встретилась с ним снова в его маленьком офисе. Операция была проведена со всем мастерством, на которое был способен хирург экстра-класса.
Профессор Гриффин сказал, что, когда операция подходила к концу, он подумывал удалить Филипу весь желудок и из кишки сформировать некое подобие сумки для приема пищи, однако для этого потребовалось бы еще четыре часа. Могу уверенно сказать: он сомневался по поводу этого своего решения. Поэтому слово взяла я: «Но ведь, поглядев на Филипа, как на тысячи пациентов до него, вы видели, что остатки его желудка выглядели вполне нормально. Вот вы и решили: пусть они будут на месте, это будет лучше для пациента. Вы принимали это решение на базе своего многолетнего опыта».
Он ответил: «Похоже, вы хорошо знаете, что это такое – принимать решения».
«Да, знаю, – сказала я. – Но мои решения не касаются вопросов жизни и смерти. А ваше, как мне кажется, было правильным».
Об этой беседе я тоже никогда не рассказывала Филипу.
Обстановка в реанимационном отделении британской больницы очень сильно отличается от того, как это выглядит в Америке. Хоть меня и предупреждали, я оказалась не готова к виду Филипа – ему в горло была вставлена трубка для дыхания. Он походил на мертвеца. Его собирались продержать под наркозом всю ночь, так что мне велели вернуться следующим утром. Когда я пришла, они вынули трубку. Филип едва пришел в сознание, он наверняка испытывал сильную боль, поэтому я просто сидела рядом и безуспешно пыталась понять, чего он хочет. Не знаю, как я все это выдержала, но я старалась быть сильной, отвечая и за себя, и за мужа.
В главе «Территория Смерти» Филип пишет о растяжимости времени, о том, как из физического оно превращается в эмоциональное. Это же можно было сказать о его состоянии во время обеих операций и сразу после них. В такой ситуации думать можно только о том, как дожить до начала следующего часа. Час проходит и без какого-то заметного стыка перетекает в следующий час. И так далее. Реальное время и реальная жизнь оказываются в подвешенном состоянии. Все внимание сосредоточено на положении больного, будто этим ему можно помочь. Здесь свою роль играют и ритуалы. Весь ритм больничной жизни, кофе из больничного буфета, оплата телевизионной карточки. Тысячи мелких, не связанных между собой действий, которые заполняют весь день.
В Ньюкасле все выглядело солидным и внушало доверие. Я видела, что Филип попал в хорошие руки. Впрочем, когда он через несколько месяцев вернулся сюда, чтобы узнать результаты анализов, новости все равно были плохими.
Это означало новые сеансы радиотерапии в Марсдене и использование трубки для кормления. Как я ненавидела звук этой ночной кормежки, аварийную пищалку, срабатывавшую при расстыковке этих трубок, и густой желтый кисель, проливающийся то тут, то там. Тем не менее эта трубка была для Филипа залогом жизни, и я тряслась над ней, как над драгоценностью.
Филип все время рисковал ее выдернуть. Каждый день я со страхом проверяла все крепежи, которые удерживали ее на месте.
А жизнь тем временем снова входила в какую-то колею. Я уговаривала Филипа принять таблетки, поесть чего-нибудь в дополнение к питательному киселю. Я постоянно за что-то переживала. В некотором смысле переживать по мелочам было легче, чем осознать мой глубинный страх – страх за жизнь, которая едва теплится в теле моего мужа.
Когда жизнь более-менее нормализовалась, я подумала, что мне можно было бы съездить на Иерусалимскую книжную ярмарку, куда я летала в течение многих лет. Тем более что я обещала организатору, Зеву Биргеру. Туда же был приглашен один из наших авторов, Иен Макивен, для вручения премии, и это помогло мне принять решение. Я оставила Филипа на Джорджию, Грейс и медсестру. Я уже сидела в самолете, когда позвонил Филип и сказал мне, чтобы я не волновалась, но у него снова плохие новости. Он ухитрился выдернуть трубку для кормления, и теперь они с Джорджией находятся в больнице Университетского колледжа, а специалист из Ньюкасла объясняет, что нужно делать. Если в течение считанных часов вставить трубку в каналы, которые остались от старой, сказал эксперт, это позволит обойтись без операции, и некий великий врач-итальянец со «скорой помощи» берется сейчас это сделать. Я выслушала эту новость и не могла успокоиться до самого Иерусалима.
На несколько месяцев эта трубка стала стержнем, вокруг которого вертелась вся наша жизнь. Из-за нее у нас было еще много поездок в Университетский колледж, пока наконец после лучевой терапии Филип не выдернул ее раз и навсегда.
Благодаря медперсоналу из Ньюкасла мы получили год, которого при других раскладах наверняка не было бы. Мы даже отважились на летний отпуск в Италии, пожили в двух великолепных отелях, о каких Филип мечтал много лет. Но все равно дела были не слишком благополучны. Когда живешь бок о бок с болезнью, полезно сменить обстановку, чтобы заметить перемены дома.
Первую неделю Филип не отказывался поесть, но все равно продолжал худеть. Он стал похож на скелет. На вторую неделю он едва мог удержать в себе то, что проглотил, и я смотрела почти с облегчением, как он проводил все время в работе над книгой «Революция без конца». Иногда он пытался работать, находясь рядом со мной и окружив себя ворохом бумаг. Я знала, что он очень болен, но для того, чтобы это полностью осознать, требовались время и подобающее место.
Когда мы вернулись домой, онкомаркеры в крови взлетели до небес, и это был конец. Слепой, опустошающий ужас. В те дни я сказала одному другу, что чувствую себя как в машине, несущейся на кирпичную стену, причем вижу все это как в замедленной съемке. Я совершенно не представляла, как избежать надвигающейся катастрофы.
Профессор Каннингем порекомендовал паллиативную химиотерапию, но до ее начала нужно было снова вставить трубку для кормления.
Как рассказывал Филип, это была одна из самых тяжелых послеоперационных недель. Хирург, который делал операцию, улетел в Китай, и у нас сложилось четкое убеждение, что наступил конец игры, но и здесь тоже сталкивались между собой разные подходы.
Когда накопилось чрезмерное количество проблем, в больнице решили прекратить всякое питание.
Проблемой стали и хронические запоры, но здесь нельзя было давать никаких средств из-за риска внутренних кровотечений. Он уже не мог принимать пищу через трубку, так как эта система была отключена. Жуткая «уловка-22». Я надеялась, что Жервуа Андреев предложит какое-нибудь решение, но он оказался в отпуске. Когда он вернулся, мы, по крайней мере, установили, что нет никакого кровотечения. Он прописал слабительное, после чего положение как-то уравновесилось.
Все эти события привели нас с Филипом к трем дням глубокого переосмысления. Я помню, как пришла в Марсден и застала его в полном упадке. Было такое ощущение, что он просто раздавлен тяжестью ситуации. Первый раз я видела его таким печальным, и это меня просто убило.
В течение предыдущих четырех лет было много случаев, когда Филип мучился от боли, когда его раздражали неудобства, но он всегда сохранял надежду, всегда оборачивал ситуацию так, чтобы увидеть в ней хоть что-нибудь положительное. Но теперь болезнь накрыла его, да и всех нас, с головой, и в этот момент он впал в абсолютное отчаяние.
Филип много писал и говорил о цели, о смысле. В частности, он рассуждал и о предназначении своего заболевания, однако в этот момент он, кажется, перестал его видеть – только печаль и чувство утраты.
Я думаю, его подкосили переживания, связанные с симптомами болезни. Глядя на его муки, я с ужасом представляла, что это значит – ощущать свою беспомощность перед силами, которые взяли верх над твоим телом. В избавление больных от симптомов вкладывается недостаточно средств, об этом мало известно. Во многих больницах, включая Марсден, имеются отличные подразделения паллиативного ухода. Там знают, как обуздать боль и другие симптомы умирания, но пока вы не окажетесь у них, для вас все сведется к методу проб и ошибок.
О тошноте как побочном эффекте химиотерапии все знают, но в ту область, где работает доктор Андреев (а это весь спектр проблем с пищеварением, возникающих вследствие химиотерапии и радиотерапии), направляется слишком мало средств. Это ужасающий список жалоб и страданий, и даже если его кто-то составит, все равно мало кто готов его обсуждать.
Доктор Андреев не занимается лечением, но если просто тщательно выполнять его предписания и принимать лекарства из его списка, это существенно облегчит жизнь, как это было в случае Филипа. Профессор Гриффин очень заинтересован в работе доктора Андреева в своем центре. Вот почему мы указали его адрес как один из двух, куда мы просим посылать пожертвования.
Всю свою взрослую жизнь Филип подчинял каким-либо планам. Этого могли не видеть даже самые близкие люди, но он всегда одновременно действовал на нескольких уровнях, вел игру, направленную к очень далеким целям. Это был его дар, который подкреплялся мощной интуицией и глубиной видения. Его фокус-группы действовали так эффективно, потому что он не просто видел людей, а добирался до их мотивации, проникал в те глубины, спрятанные под рябью поверхностных мнений, где кроются самые базовые чувства, предопределяющие взгляды на жизнь.
Он вступал в глубинный контакт даже с теми, с кем встречался лишь мимолетно, и это подтверждает множество писем, полученных после его смерти. В краткой, напряженной беседе со случайным человеком он мог быстро добраться до глубинного знания о своем собеседнике, понять, что ему нужно, и предложить ему некое видение, которое могло изменить его жизнь. Я до сих пор встречаюсь с людьми – последний раз в аэропорту Дели в три часа утра, – которым есть что сказать о великой власти Филипа над человеческими душами.
И друзья рассказывают, сколь щедро тратил он на них свое время. Он всегда был готов к серьезной беседе, всегда мог выслушать человека и помочь ему в достижении его целей. И, разумеется, он всегда был щедр на великолепные советы. Последние годы, работая вместе с Мэтью Фройдом, он консультировал многих политиков, деятелей из академического мира и лидеров бизнеса, безо всяких усилий включаясь в новую среду, пока ему не стало слишком сложно путешествовать. Но даже и тогда его клиенты сами приезжали к нему.
План игры, которую Филип затеял со своей смертью, на первых порах был не очень понятен ни для меня, ни для дочерей. Мы видели, что он с новыми силами взялся за поиск цели, но не подозревали, что он намерен вынести на публику свои соображения о смерти и умирании.
Я знала, что он дал два интервью в связи с публикацией книги «Революция без конца». После интервью Эндрю Марру он позвонил мне и сказал, что все прошло нормально, но что в конце всплыл вопрос о его здоровье. Как он сказал мне, он «углубился в некоторые тонкие материи», даже не думая, что все это пойдет в эфир. Поэтому для нас было потрясением увидеть в воскресенье это интервью по телевизору. Мы не могли смотреть его без слез.
Затем он дал интервью Саймону Хаттенстоуну из «Guardian». Я знала, что этот интервьюер – большой любитель отпускать ехидные замечания в адрес своих собеседников, поэтому я чувствовала себя не в своей тарелке. Понимая, что Филип здесь уязвим, я по мере того, как у него сдавало здоровье, все больше стремилась его защитить. Однако Филип выступил как мастер недомолвок. Как он сказал, в интервью шел в основном разговор о книге, «но я все-таки углубился в кое-какие серьезные темы касательно смерти».
Это интервью тоже оказалось по своему характеру глубоко личным. По моим представлениям, даже чересчур. Оно брало за душу, и в полученных мною письмах его упоминают очень часто. Как и интервью Эндрю Марра, оно повлияло на многих людей. Саймон нашел общий язык с Филипом, и они стали друзьями – даже обменивались записками относительно футбола. Я помню такую эсэмэску, которая пришла за день до его смерти.
Следующая часть плана была реализована через Адриана Стайрна, который вместе с Мэтью Фройдом взялся за проект о культовых фигурах в Южной Африке и по всему миру. Адриан – замечательный фотограф и кинорежиссер. Он решил сделать фотографии Филипа и взять у него интервью на тему его смерти. Было решено, что фотография будет снята прямо на его будущей могиле на Хайгетском кладбище.
В моем представлении, смириться со смертью означало подготовиться к ней в том единственном смысле, который я знаю, то есть в практическом. Я сказала Филипу, что, если ответственность за похороны он возложит на меня, я наверняка выберу или не ту службу, или не ту музыку. Таким образом, получился проект, который повлек за собой множество встреч с Аланом Мозесом и много визитов в церковь Святой Маргариты. Согласно этому плану, предполагалась сначала кремация, а потом погребение. Однако первым делом нам требовался участок на кладбище.
Девочкам хотелось, чтобы могила была где-то рядом и можно было ее регулярно посещать. Мы с Филипом отправились на Хайгетское кладбище, где познакомились с главным могильщиком Виктором Херманом, который провел нас по всему своему хозяйству. Он показал нам несколько участков, но все они нам не подходили, и уже когда мы шли к выходу (а там есть пологий подъем на холм), он остановился и сказал: «Вот. Похоже, этот участок свободен». Это было прекрасное место, прямо там, где надо. Сияло солнце, цвели цветы, и мы оба ощутили здесь какое-то умиротворение.
Мы вернулись обратно в офис, там Виктор достал заплесневелый рукописный гроссбух – такому место в фильмах про Гарри Поттера – и подтвердил, что этот участок свободен. Я прямо сразу же его и купила. Виктор всю жизнь провел рядом со смертью, и в нем так удачно сочетались деликатность, скорбь и чувство юмора, что мы могли чувствовать себя естественно и спокойно. Я была глубоко убеждена, что мы выбрали правильное, очень радушное место.
Ко всяким ритуалам и подготовкам можно относиться с иронией, но на меня все эти практические заботы действовали успокоительно. Филипа это тоже у влекло: с одной стороны, он всегда стремился к пониманию сущности вещей, а с другой – управление любым делом нравилось ему, как веселая игра. Его убедили, что все будет именно так, как он захочет. Я знала, что он переживал за меня, боялся, что я одна не справлюсь со всеми этими хлопотами. Он не хотел возлагать на меня всю эту суету. Кроме того, здесь он наконец смог воочию увидеть место своего упокоения и убедился, что оно именно такое, мирное, каким он его себе представлял.
Адриан со своей группой приехал в семь утра 27 октября, чтобы отвезти Филипа на съемки. Это было за одиннадцать дней до его смерти. Я боялась, что он простудится, и настаивала, чтобы он взял с собой бутылку с горячей водой. Похоже, Филип проигнорировал мою просьбу, он чувствовал себя на подъеме, будучи в центре внимания большой компании талантливых молодых людей. Я ему постоянно названивала, зная, как легко он забывает, что ему можно, а что уже опасно. В пятницу мы поехали за город, где планировалось записать вторую часть интервью.
Филип выглядел очень слабым, и когда мы поднимались по лестнице, он почувствовал одышку. Я подумала, что на кладбище он мог простудиться. К концу выходных проблемы с одышкой усугубились, а в понедельник, который мы провели дома, ему стало уже совсем нехорошо. Я чувствовала, что происходит нечто очень зловещее.
Перед нами маячил смертный приговор. И трудно было не думать все время только об этом, не увидеть его в этой одышке. Я хотела сразу же позвонить в больницу, но Филип настоял, чтобы мы дождались утра, когда все равно собирались идти туда на химию. Однако терпеть одышку ему становилось все труднее. На следующее утро он чувствовал себя так плохо, что я позвонила в больницу, чтобы они там все устроили заранее для рентгеноскопии.
Джорджия написала, как все было дальше. Это была самая напряженная неделя в моей жизни. Пришли все близкие друзья Филипа – Тони Блэр, Аластер Кемпбелл, Мэтью Фройд. Как всегда, они всячески старались нас поддержать. Была, разумеется, его сестра Джилл. Его друзья по всему миру поддерживали с нами постоянную связь.
Мы создали свой собственный мирок в реанимационном отделении, но при этом видели, что Филип от нас уходит. В последний день, когда он был в сознании, он попросил ноутбук, но ко всем его пальцам были прилажены датчики, так что печатать он не смог. Мы сняли все эти прищепки, но печатать все равно не получилось. Тогда я предложила набрать текст за него. Он все время повторялся, я пыталась сказать ему об этом, но он меня не слушал. Мне было больно слышать его хриплый голос и понимать, что с каждым произнесенным словом он теряет последние силы.
Тот день он провел очень напряженно. Его обуревали страхи, но он сопротивлялся смерти – невзирая на достигнутое смирение. Тело было повержено, но его разум, настойчивый, отчаянный, торопящийся быть услышанным, продолжал цепляться за жизнь. Именно разум оставался источником жизни в умирающем от рака теле. Предыдущей ночью он записал в блокноте: «Это было чудесно, когда ночью ты, Грейс и Джорджия держали меня за руки. Я чувствовал блаженство».
Как писала Джорджия, Филип понимал, что смерть уже на пороге. Об этом он узнал из своих снов. После непроглядного мрака он видел во сне сияющие дворцы и разноцветные произведения искусства, видел танцы и веселье, изощренные узоры, переливающиеся один в другой и ведущие по дороге, у которой нет конца. Это были, как он сказал, прекрасные сны.
Момент смерти Филипа я обсуждала со многими друзьями – и с верующими, и с атеистами. Я ощутила фантастический миг благословения – именно тогда, когда по его телу прошла судорога и он умер. Мне показалось, будто я заглянула в бесконечные миры. В эту секунду маленькая больничная комнатка наполнилась светом. Мое рациональное «я» говорит мне, что это плод воображения, что в эту минуту слились воедино и эмоциональная напряженность, и усталость, и григорианские псалмы, которые мы слушали десять часов подряд, но я лучше буду верить, что это был последний подарок мне от Филипа, когда его душа отправилась в иной мир.
Я не уверена, что хоть кому-нибудь под силу смириться с необратимостью смерти. Скорбь трудно подчинить своей воле. После того как Филип умер, первый месяц прошел в непрерывных страданиях. Прозаические, формальные, выматывающие процедуры – получение свидетельства о смерти, утверждение завещания, похоронные распоряжения – смешивались с переживанием удара и неспособностью понять, что все-таки произошло.
Некоторое время после смерти Филипа его «блэкберри» лежал рядом со мной на постели, мигая красным огоньком, но на него приходил только спам и какие-то циркуляры. Этот смартфон так долго был главным каналом его связи с окружающей жизнью, его излюбленным устройством, что теперь, затихнув, он лишь подтвердил нашу утрату. А потом как-то ночью он зазвонил. Я была так потрясена, что не успела вовремя ответить. Я повернулась к Филипу, чтобы сказать: «Вот какой-то идиот никак не может понять, что ты умер, и названивает тут посреди ночи». На долю секунды я просто забыла, что говорить эти слова уже некому.
Я хорошо понимаю, как некоторые люди после смерти близких утрачивают волю к жизни. Многие месяцы после смерти Филипа я могла чувствовать себя нормально только в разговорах с друзьями или с некоторыми книгами. Мне дали списки книг для чтения в подобных случаях, но я не воспринимала ничего, кроме поэзии. Все бумаги по медицинским процедурам, которые остались после Филипа, я сразу же выкинула, но к остальным его вещам боялась прикоснуться. Опасаюсь, как бы мне не стать подобием мисс Хэвишем[20].
На одном только чувстве утраты нельзя построить будущую жизнь.
Меня спрашивают, почему я не взяла после смерти Филипа трехмесячный отпуск. А что бы я делала все эти три месяца? Скорбь все равно нельзя загнать в какие-то временные рамки.
Я активно занимаюсь наследием Филипа. В нем эта книга занимает не последнее место. Есть еще фильм, снятый Адрианом Стайрном, и портрет, который вы можете видеть на суперобложке. Он должен поступить в коллекцию Национальной портретной галереи. Я буду помогать в финансировании дальнейших научных исследований, поддерживать благотворительные организации, которые содействуют получению новых знаний о таком заболевании, как рак пищевода, и могут быть полезны в его лечении и предупреждении.
Я так пока и не поняла, какой положительный смысл может быть в смерти Филипа для меня и моих дочерей Джорджии и Грейс. Нас троих эта смерть просто лишила жизненного стержня.
Если же все-таки искать в этом какой-то смысл, нужно сначала вооружиться тем бесстрашием перед лицом смерти, которое отличало Филипа, вооружиться его пониманием, что есть на свете такая вещь, как «добрая смерть». Для этого и нужна его книжка, которая может дать нам глубинное понимание мира и изменить жизнь многих людей. В этом и состоял дар Филипа, когда он был жив. Так пусть он продлится и в его смерти.
Письмо другу
Во вторник 15 ноября 2011 года в лондонской церкви Всех Святых на Маргарет-стрит состоялась торжественная заупокойная месса по Филипу Гоулду. Перед многочисленной аудиторией, среди которой можно отметить двух бывших премьер-министров и другие видные политические фигуры, по просьбе семьи покойного Аластер Кемпбелл зачитал свое электронное письмо, отосланное его другу Филипу Гоулду буквально перед самой его смертью. Приводим полный текст этого письма.
Дорогой Филип!
Я, как и многие другие, продолжаю надеяться, что ты все-таки найдешь в себе силы, чтобы пережить эту тяжелую ситуацию. Мужество, которое ты обнаруживал прямо с того дня, когда тебе сообщили, что ты болен раком, вызывало уважение у всех окружающих. Если и есть на свете люди, способные бросить вызов медицинскому приговору, то ты явно принадлежишь к их числу.
Однако даже если на этот раз болезнь тебя победит, я не хочу, чтобы ты уходил, не оглянувшись на меня, и говорю тебе вслед, какой ты был прекрасной личностью и каким замечательным другом. Из всех друзей ты единственный, которому довелось соприкоснуться с каждым поворотом, каждым аспектом моей жизни. Тебе знакомы мое прошлое и настоящее, политика, работа, отдых, спорт и выходные, обучение, книги, благотворительность и, что самое важное, семья и дружба. Господь одарил меня знакомством с тобой. То же могу сказать от лица Фионы, Рори, Калума и Грейс. Если вспоминать самые счастливые моменты из наших жизней, выяснится, что очень часто ты был их причиной.
В трудные минуты ты тоже всегда оказывался рядом. Вспомни, что говорил Алекс Фергюсон: «Верный друг – тот, кто решительно входит в твой дом как раз в тот момент, когда все толпятся в прихожей, торопясь уйти». Именно такую дружбу ты демонстрировал так часто, так последовательно, с такой силой, что она помогала мне даже в самые тяжелые дни моей жизни.
Получив во вторник твое прекрасное, трогательное письмо, я был убежден, что ты не доживешь до ночи, и почувствовал, будто лишился какой-то части себя. Ты знаешь мою сумасшедшую теорию, что у знать, хорошую ли мы прожили жизнь, можно только в ее конце. Точно так же настоящую цену дружбе мы познаем только тогда, когда друга с нами уже нет. Утрата, которую понесли Гейл, Джорджия и Грейс, не поддается описанию. Но есть еще множество людей, которые подпали под твое обаяние и тоже будут глубоко переживать эту утрату.
Моя любимая цитата из современного политического контекста принадлежит не мне, не тебе и не кому-то из наших «новых лейбористов». Она была произнесена самой королевой десять лет назад после трагедии 11 сентября: «Скорбь – это цена, которую мы платим за любовь». Тебя любят многие, так что и скорби будет много. Но эту цену не жалко платить – за радость знакомства с тобой, работы с тобой, шуток, разыгранных вместе с тобой, и слез, пролитых вместе с тобой. И за честь лицезреть твое мужество при встрече со смертью, когда ты проявил те же смирение, веру и заботу о людях, какие всегда проявлял в прежней жизни.
Я всегда буду помнить тебя, и не за твою храбрость при встрече с болезнью, хотя здесь ты держался просто безупречно, а за исключительную жизненную силу, которой ты отличался в те годы, когда был здоров. Твой энтузиазм, твоя страсть в политической борьбе, вера в победу добра, любовь к людям труда, преданность делу своей партии – все это найдет свое место в истории, которую мы много лет писали в месте. Мне нравится дерзкий тон твоей переработанной книги «Революция без конца», ее суть, в которой ты провозглашаешь: «Что бы критики ни говорили, но мы изменили к лучшему и политический мир, и самое Британию». Очень многие из нас впали в уныние. Тебе такое было не свойственно. Для тебя такого не было, нет и не будет. И эта уверенность зиждется на подлинных нравственных ценностях, на силе характера, а главное, на духовной цельности.
В мире, где одни дают, а другие берут, ты всегда был среди тех, кто дает. В мире, где процветают примадонны, ты предпочитал оставаться в рядах своей команды. Возможно, ты единственный среди лидеров «новых лейбористов», кто смог вершить великие дела, не наживая себе врагов. Это тоже проявление твоего исключительного характера, твоей любви к людям, твоей решимости отдавать свои силы не на разрушение, а на строительство и исцеление. Даже в последние дни и недели у тебя находились силы для врачевания ран, нанесенных людям властями. Вот чему нужно у тебя учиться, и мы этого не забудем.
Разумеется, мне будет не хватать ежедневных разговоров, пикировки, нескончаемых споров, какой клуб круче: «Queens» или «Burnley». Мне будет не хватать тебя как советчика, помогающего мне продумывать мои идеи, как большие, так и маленькие. Но больше всего в жизни мне будет не хватать твоей жизненной силы, твоего убедительного голоса. С тобой наша жизнь стала намного лучше. Ты – часть нашей жизни, и ты останешься в ней навсегда.
Потому что в моей жизни, дорогой Филип, ты являешься более могучей силой, чем смерть, которая тебя уносит.
Всегда твой
АК
Гейл Ребак
При создании этой книги нам помогали очень многие. Первым следовало бы отметить Кита Блакмора, который согласился стать ее редактором, параллельно исполняя обязанности заместителя редактора газеты «The Times». Нашим проектом он занимался со страстью и увлечением. Мы благодарим Эда Виктора, товарища и неоценимого помощника, который всегда беззаветно поддерживал Филипа и его творчество, который показал себя неизменно доброжелательным соседом и верным другом всей нашей семьи. Именно в присутствии Эда на одном из воскресных чаепитий Филип спросил, каким будет последний срок для сдачи книги, не сознавая в тот момент мрачного подтекста этого вопроса.
Аластер Кемпбелл был настолько близок Филипу, насколько это возможно. Он являлся и другом, и политическим союзником, в тяжелую минуту он всегда был рядом, поддерживая Филипа с присущим ему юмором. Вся семья Кемпбеллов-Милларов все эти горькие годы была поддержкой нашей семьи, ее продолжением, предоставляя во Франции и в Шотландии места, где можно отдохнуть. Тони Блэр – столп, поддержавший Филипа в духовном и интеллектуальном отношении. Он писал нам со всех концов света, и это было великим благом для Филипа.
Мэтью Фройд еще в 2000 году занял свое место в жизни Филипа. Со временем они стали близкими друзьями и партнерами по интеллектуальному спаррингу. Оба отличались цельным характером, умели находить смысл и предназначение как в собственном существовании, так и в жизни своих клиентов. Фройд обладал железной волей. То же самое можно сказать и о Никола Хаусоне. Мэтью и его жена Лиз Мердок стали нашей главной опорой, а их великодушие просто безгранично. Пит Джонс, с которым Филип познакомился еще в университете, оставался верным и чудесным другом в течение всей жизни.
Благодарим также Стивена Бэджера за его духовную глубину и мудрую поддержку, Дэвида Каменецки и Анну-Лину Ветцель, Норину Хертц, основателя клуба «Спросите Филипа», Джона Торнтона и Антонио Лучо, который обессмертил Филипа в учрежденной им премии за лидерство и сейчас остается нашим другом и наперсником. Особая благодарность всем, кто внес свою лепту в благотворительные акции, организованные Филипом. Они знают, о ком я говорю, и будут помогать претворять в жизнь его наследие.
Благодарим также дружную лейбористскую семью, к которой принадлежал Филип. На следующий день после его смерти наш дом наполнился его политическими соратниками. У нас были и Питер Мандельсон, и Тесса Джоуэлл, и Маргарет Макдонах – новолейбористская версия иудейской шивы[21]. Нас завалили письмами от партийных активистов, от политиков, с которыми Филип проводил бесчисленные вечера, обсуждая стоящие перед ними цели. Вот они – Джеймс Пернелл, Дэвид Милибэнд, Эд Милибэнд, Дуглас Александер, Гордон Браун и его друзья по временам «No. 10»[22], Салли Морган, Энджи Хантер, Питер Хайман и многие другие, о которых он мне никогда не рассказывал. Я знаю, что лейбористская партия всегда была для Филипа родным домом, что друзья, которых он там приобрел, оставались с ним до самого конца. В своей книге «Революция без конца» Филип благодарил многих соратников, которые ему помогали и его поддерживали.
Я хотела бы выразить благодарность газете «The Times» и Джеймсу Хардингу за тот изысканный стиль, который они выбрали, чтобы представить публике работу Филипа, и за поддержку, оказанную Джули его проекту.
Благодарим весь медицинский персонал, помогавший Филипу пройти по его онкологическому пути, за доброту, заботу и преданность, с которой они провели нас через все тяготы этих лет. Особая благодарность – блестящему профессору Майку Гриффину, который сделал Филипу операцию, на которую отважились бы немногие. Именно он подарил Филипу еще один год жизни. Благодарим Клэр Седгвик, которая всегда была на телефоне, отзываясь на все наши проблемы. Благодарим также профессора Дэвида Каннингема, который заботился о Филипе, не покладая рук. Именно он поддерживал нас в самые мрачные дни. Благодарим весь персонал больницы Марсден, а особенно доктора Каза Мохлински, доктора Жервуа Андреева и доктора Крэйга Карра, а также всех сотрудников отделения интенсивной терапии.
Благодарю также всех, кто написал прекрасные некрологи в связи со смертью Филипа. У него было очень много близких друзей, так что здесь всех и не перечислить, но мы высоко ценим ту поддержку и любовь, которую чувствовали с вашей стороны в течение последних лет.
Я должна также поблагодарить моих коллег из издательства «Random House» за их поддержку в эти тяжелые времена. Благодарю наших авторов, которые стали друзьями, благодарю Найджелу Лоусон за то, что она принесла сэндвичи с копченым тунцом, чтобы покормить всех в ту самую ночь, когда умирал Филип. Благодарю Иена Макивена и Анну-Лину Макафи за то, что настояли на моем выходе в свет, когда все мои желания сводились к тому, чтобы просто исчезнуть. Благодарю Кармен Каллил, которая не оставляла меня в своих заботах. Благодарю также многих других авторов за слова ласки и утешения.
Благодарю всех, кто работает в издательстве «Little, Brown», а особенно Тима Уайтинга за его заботливую и чуткую редактуру, и Урсулу Маккензи за поддержку всех проектов Филипа.
Благодарю мою дорогую подругу Сьюзи Фиггис, лучшего кастинг-директора во всей Британии, за ее неизменную поддержку, за то, что она была рядом в течение всего нашего скорбного путешествия. Такова настоящая дружба, которую мы строили целых сорок лет. Благодарю моих родителей и брата, они знали Филипа с тех пор, когда я сорок лет назад первый раз привела в дом своего неуклюжего университетского приятеля и они согласились принять его в семью. Благодарю сестру Филипа Джилл, которая уделила ему столько ласки в последние месяцы его жизни. И наконец, благодарю моих девочек Джорджию и Грейс за любовь, сострадание, юмор и мудрость, просто удивительную в их годы. Так нас теперь и называют – «три Джи». Вот они, наши дочери, и есть подлинное наследие Филипа.
Кит Блакмор
Редактировать эту книгу было для меня большой честью, и за это я должен первым делом благодарить Гейл Ребак, Джорджию и Грейс Гоулд. Именно их такт и терпение сделали эту работу настоящим удовольствием. Бесценными были, как всегда, содействие и рекомендации Эда Виктора. Я должен также поблагодарить коллег из газеты «The Times», а особенно моего неукротимого босса и друга Джеймса Хардинга – хотя бы за то, что он позволил мне выделить время на эту работу. Выражаю благодарность Роджеру Альтону, Аннушке Хили, Саймону Пирсону и Энн Спакман за то, что они прикрывали наш газетный фронт, когда я занимался редактированием книги. Ричард Уайтхед очень добросовестно отредактировал первоначальный вариант газетной публикации, что существенно облегчило мою работу. Адриан Стайрн любезно позволил использовать материалы из своих интервью. И наконец, я должен поблагодарить мою жену Уинифрид и детей Шан и Бена, которые опекали меня, когда я дни напролет проводил, погрузившись в захватывающий мир Филипа.
Все авторские гонорары за эту книгу будут направлены в
Национальный фонд борьбы с раком желудка и пищевода, на ознакомление широкой публики с этим заболеванием, на разработку методик ранней диагностики, которые могли бы повысить шансы сохранить жизнь таким больным.
Пожертвования можно направлять онлайн по адресу: www.justgiving.com/nogcf
или почтой по адресу:
The National Oesophago-Gastric Cancer Fund
c/o Newcastle Healthcare Charity (Reg. 502473)
Charitable Funds Office
203 Cheviot Court
The Freeman Hospital
High Heaton
Newcastle upon Tyne NE7 7DN
Кроме того, пожертвования можно направлять в онкологический благотворительный фонд Royal Marsden. Эти деньги пойдут на отработку протокола контролирования симптомов желудочного рака при химио– и радиотерапии, созданного доктором Андреевым, и на прорывные исследования профессора Каннингема в областях генетической предрасположенности к раку пищевода и оптимальных целевых лекарств.
Деньги можно жертвовать онлайн по адресу: www.royalmarsden.org/philipgould
или почтой по адресу:
The Royal Marsden Cancer Charity Downs Road Sutton SM2 5PT
Краткая справка об онкологических заболеваниях пищевода и желудка
Пищевод соединяет ротовую полость с желудком.
Опухоли, развивающиеся в нижней части пищевода, принято называть аденокарциномами. Их обычно объединяют с онкологическими заболеваниями в зоне сопряжения пищевода с желудком. Большая часть исследовательской и лечебной работы в этих смежных областях проводится совместно. Эти виды рака отделены от опухолей в средней и верхней части пищевода, там уже требуется другой подход.
Каждый год по всему миру диагноз «рак пищевода» ставится пятистам тысячам человек, причем более четырехсот тысяч из них впоследствии умирают. Эта болезнь плохо поддается лечению, так как к моменту установления диагноза часто успевает распространиться от первичной опухоли на периферию. Это уже исключает хирургическое решение проблемы, так что остаются только паллиативные методы, консервирующие и контролирующие это заболевание.
И даже если в лечебных целях проведена хирургическая операция, большая часть пациентов оказывается жертвой рецидива этой болезни. По самым последним данным, при хирургическом вмешательстве, сопровождающемся дооперационной химиотерапией и послеоперационной химио– и радиотерапией, пятилетний порог преодолевают лишь 30–35 процентов пациентов, страдавших раком пищевода/желудка.
Следует иметь в виду, что это заболевание охватывает сейчас все более широкий круг людей. Согласно данным Британской службы онкологических исследований, в течение последних двух-трех десятилетий в Британии наблюдается заметное учащение случаев аденокарциномы в нижней трети пищевода и в зоне сопряжения пищевода и желудка. Особенно явно эта тенденция зафиксирована в Шотландии и среди мужчин. Статистика для мужчин и для женщин различается более чем в два раза, а это одно из самых высоких гендерных различий для онкологических заболеваний, не имеющих профессионального характера.
Риск развития этого заболевания растет также и с возрастом – он гораздо чаще наблюдается среди престарелого слоя населения. В целом рак пищевода составляет 3 процента всех онкологических заболеваний в Великобритании, то есть входит в десятку самых распространенных злокачественных опухолей в этой стране.
Среди способов решения этой проблемы надо отметить более раннюю диагностику, еще до того, как болезнь широко распространилась в теле пациента.
Однако сложность здесь состоит в том, что симптомы желудочно-пищеводного рака не очень специфичны и представляют собой всего лишь изжогу, несварение и диспепсию. В настоящее время клиницисты подчеркивают, что появление новых симптомов этого ряда должно считаться достаточным для того, чтобы обратиться за консультацией к врачу. Правильное диагностирование на ранней стадии должно повысить шансы эффективного лечения. С другой стороны, этот подход нужно подкреплять более эффективным лечением на местах, что подразумевает усовершенствованные хирургические методики и более современное оборудование для лучевой терапии.
Для ситуаций, когда наблюдается рецидив заболевания или если оно на момент диагностирования распространилось уже достаточно широко, сейчас разрабатываются более эффективные методики общего лечения. Комбинированная химиотерапия демонстрирует явные преимущества в подавлении опухоли по сравнению с однокомпонентной химиотерапией, хотя за это преимущество приходится платить повышенной общей токсичностью. Преклонный возраст многих пациентов, тот факт, что зачастую они страдают и от других заболеваний, а также вызванная раком общая слабость часто не позволяют эффективно применять эти методы лечения. Те же причины зачастую делают проблематичной даже госпитализацию таких пациентов для клинического обследования.
В целях повышения терапевтической эффективности и для снижения побочных эффектов цитотоксической химиотерапии многие исследователи концентрируют свое внимание на использовании новых методик, действующих на молекулярном уровне. Такие методики предполагают идентификацию клеточных характеристик, что позволило бы вести целевое воздействие, специфичное для каждого вида онкологических заболеваний.
Характерный пример такого подхода – трастузумаб (Trastuzumab), он же герцептин (herceptin), для пациентов с раком пищевода и желудка. При лабораторных анализах он дает положительную реакцию для рецептора HER-2. Тем временем работы ведутся и дальше, простираясь за клеточный уровень. В частности, речь может идти об идентификации генетического материала каждого пациента. Этот путь ведет к созданию персонифицированной медицины, которая позволит применять индивидуализированные целевые методы терапевтического воздействия.
Эта справка по онкологическим заболеваниям пищевода была предоставлена доктором Казом Мохлински в сотрудничестве с другими сотрудниками больницы Ройял Марсден.
Филип Гоулд – первый профессиональный политстратег и политтехнолог в истории британской политики. В попытках взаимодействовать с общественным мнением до прихода Гоулда британские партийные лидеры в разной степени опирались на прессу, на опросы общественного мнения, на экспертов из сферы рекламы и пиара. При этом они сторонились американской традиции пользоваться услугами политконсультантов, так что и сам Гоулд был очень осторожен с этим термином и называл себя не консультантом, а стратегом. Он считал, что фокус-группы и исследования рынка являются очень важной частью демократического процесса, так как позволяют народу напрямую обращаться к своим правителям.
Он был одним из полудюжины ключевых фигур, которые помогли Нилу Кинноку, а затем Тони Блэру и Гордону Брауну модернизировать лейбористскую партию. Впрочем, его деятельность не ограничилась просто помощью Блэру, которая позволила тому выиграть на выборах 1997, 2001 и 2005 годов. Он играл не менее важную роль, когда интерпретировал общественное мнение и консультировал Блэра в его бытность премьер-министром. Гоулд был той силой, которая толкала лейбористскую партию в сторону профессионализации (хотя злые языки назвали бы это «американизацией»).
Гоулд был трудоголиком, он не умел расслабляться, ему было трудно предаваться чтению или беседам просто для развлечения. У него были устойчивые суждения, он, не таясь, выражал свои чувства и лучился энергией. Было что-то максималистское в том, как он все время переключался с политического оптимизма на пессимизм.
Со своими фокус-группами он работал в авторитарном стиле, перебивал докладчиков вопросами, подталкивал их, чтобы они скорее добрались до выводов, и это обычно оказывались его выводы. Это был «человек лидера», работавший непосредственно на Блэра, хотя это не мешало ему раздражаться, глядя на культурные и организационные изъяны своей партии.
В детстве Гоулд страдал от дислексии, он закончил только неполную среднюю школу в Уокинге, графство Суррей. В подростковом возрасте Гоулд был лейбористским активистом. Его родители придерживались левых политических взглядов, отец был директором начальной школы. Став постарше, он учился в вечерней школе, повышая знания до уровня «А», и в конце концов получил место в Университете Сассекса, где изучал политологию, а дальше продолжил образование в LSE (Лондонская школа экономики). Некоторое время он занимался рекламой, открыл агентство, которое впоследствии продал, а после этого снова вернулся к учебе, поступив на год в Лондонскую школу бизнеса.
Звездный час для Гоулда настал в октябре 1985 года, когда Питер Мандельсон, организатор лейбористских кампаний и пиара, нанял его для для ревизии каналов партийной связи с общественностью. Гоулд составил убийственный доклад, в котором констатировалось, что в партии существует слишком много конкурирующих между собой комитетов без четко фиксированных полномочий, что партия слишком много времени тратит на обращения к своим активистам (а их число продолжает падать, и совсем не они представляют волю избирателей, к тому же они не признают новых коммуникативных методов).
При поддержке одного из лейбористских лидеров, Нила Киннока, Гоулд сформировал «Теневое агентство связей» (Shadow Communications Agency, SCA), добровольное сообщество экспертов по СМИ и PR, согласившихся безо всякой оплаты предложить партии свои услуги. Работая по заказам Мандельсона, команда Гоулда профессионально провела предвыборную кампанию, заслужившую в 1987 году восторженные отзывы. Впрочем, это не предотвратило еще одного позорного поражения лейбористов, уже третьего подряд.
Большую часть 1987 года Гоулд провел в парламенте, координируя действия SCA и организуя опросы для контроля над эффективностью партийной политики. Новая политика помогла партии освободиться от многих своих левацких и устаревших, непопулярных позиций.
Гоулд твердо верил в эффективность фокус-групп, небольших клубов избирателей, которые углубленно обсуждали бы определенные темы. Такие группы регулярно использовались в коммерческой сфере, но в политике это был еще не опробованный шаг. Гоулд осознал значение таких групп и использовал их как механизм обратной связи, работая сначала по заказам Мандельсона, а потом в поддержку Блэра. Эти группы продемонстрировали глубинные страхи и недоверие, которые были распространены среди рядовых избирателей. Это произвело на Гоулда серьезное впечатление.
В течение предвыборной кампании 1992 года Гоулд все время ставил под сомнение сообщения, что по опросам общественного мнения лейбористы уверенно лидируют. Он сомневался, что эта партия способна победить при недоверии избирателей и к ее позиции по налогам, и к самому ее лидеру. Он был просто в ярости, когда Джон Смит не пожелал отказаться от лейбористских планов повышать госрасходы и налогообложение, но его предупредили, чтобы впредь он не смел сердить Смита. Эта кампания принесла Гоулду большие разочарования. Он упорно работал, почти каждый день навещал умирающего отца, а партия потерпела еще одно поражение.
После неудачных выборов Гоулд вместе со многими членами SCA был выставлен козлом отпущения. Именно на них повесили вину незадачливых политиков и всей партийной организации. Когда Смит стал лидером партии, Гоулда оттеснили на периферию. Модернизация партии была уже не в тренде. Гоулд был глубоко разочарован.
Профессиональному росту Гоулда способствовал его визит в США, где он помогал команде Клинтона победить на президентских выборах. В США он многому научился. Он понял, что, во-первых, необходимо сразу отражать все нападки политических противников, а во-вторых, нужен какой-то простой лозунг, принцип, который партия может бесконечно повторять. Там он понял, что, если лейбористская партия хочет выжить, она должна измениться. Избиратели должны видеть, что она меняется, партия должна перешагнуть через традиционные лево-правые противопоставления и обратиться к новому среднему классу.
После смерти Смита 12 мая 1994 года Гоулд принял активное участие в борьбе Блэра за партийное лидерство. Вместе с Мандельсоном и Аластером Кемпбеллом он был одной из ключевых фигур в свите Блэра.
Все это были серьезные люди, нацеленные на продолжение «проекта», связанного с партийной модернизацией. Гоулд руководил фокус-группами, консультировал Блэра как кандидата, а потом как лидера партии. Именно он учил Блэра, как ему держаться и что говорить.
Свою задачу Гоулд видел в том, чтобы «разрабатывать послания».
В своих речах и текстах он напрямую обращался к политикам, объединял материалы, полученные от фокус-групп и социологических опросов, со своими собственными взглядами на политическую стратегию. Блэр доверял его докладам, сообщавшим о настроениях электората. Он сформировал темы и обещания, заявлявшиеся на выборах 1997 года. Больше никто из стратегов и социологов не имел такого регулярного доступа к британскому партийному лидеру или к премьер-министру.
Подзаголовком его книги «Революция без конца» (1998) служит строчка «Как модернизаторы спасли лейбористскую партию» – это заявление не может не привлечь внимания. Гоулд вспоминает юность, проведенную в Уокинге, и времена, когда лейбористы теряли последний авторитет в глазах и поднимающегося рабочего класса, и среднего класса. Эти слои Гоулд назвал «забытыми людьми». Его рассказ о том, как партия «восстановила связь» (это его излюбленное словосочетание) с народом, стал настоящим катехизисом для молодых консервативно настроенных модернизаторов, которые мечтали вернуть своей партии привлекательность в глазах избирателя.
Местами эти мемуары резали глаз и самому Блэру. В 2000 году в печать просочилась записка Гоулда, где он говорил, что общественность считает Блэра «слабым лидером», в котором «много суеты и мало смысла». Он же говорил, что новый лейбористский бренд дискредитирован с самого начала. Со стороны левого крыла Гоулда обвиняли в том, что он слишком много внимания уделяет неустойчивым слоям лейбористских избирателей, склоняется к политическим рецептам правого крыла и вообще переходит к повестке дня «Daily Mail». В последние годы, когда Блэр был премьер-министром, Гоулд регулярно напоминал о том, что избиратель озабочен проблемами преступности, иммиграции и терроризма. Другие критики говорили, что в докладах Гоулда звучат не голоса избирателей, а его собственные измышления.
Гоулд был последовательным сторонником Блэра, что не мешало ему настаивать на том, чтобы Блэр самостоятельно заявил в 2007 году о своем уходе, не дожидаясь проигрыша. Вместе со своим близким другом Кемпбеллом Гоулд склонял Блэра и Брауна к примирению в преддверии всеобщих выборов 2005 года, а затем организовал между ними переговоры, подготавливая мирную передачу власти. Переговоры вылились в перебранку и обмен упреками, а Гоулд был потрясен, став в сентябре 2006 года свидетелем попытки переворота, которую организовали сторонники Брауна.
Когда Браун стал премьер-министром, Гоулд настоял на том, чтобы он назначил выборы в 2007 году. Основной причиной для этого было ожидаемое ухудшение политического и экономического климата, в то время как при текущей ситуации лейбористам была гарантирована победа. Гоулд на публике поддерживал Брауна, хотя и полагал, что он является слабым руководителем. У него не сложились отношения со многими из сторонников Брауна, поскольку Гоулд считал их просто интриганами и заговорщиками.
По крайней мере, в течение первых десяти лет своей связи с лейбористской партией Гоулд регулярно шел на определенные жертвы, выставляя партии счета только за свои прямые издержки. Он был экономически независим благодаря своей жене, Гейл Ребак, которая занимала пост исполнительного директора в издательстве «Random House». Это позволяло поддерживать определенный стиль жизни, жить в северном Лондоне в квартале лейбористской элиты и содержать красивый дом, смотрящий окнами на Риджентс-парк.
Он проводил свои исследования и по заказам частного сектора, и в поддержку зарубежных партий, даже в Боснии и на Ближнем Востоке. В 1998 году его пригласили в редакцию «Daily Express», где он способствовал некоторому развороту этого издания в сторону лейбористской партии. В 2004 году его произвели в пожизненные пэры, а в январе 2008 года он стал заместителем председателя в корпорации Freud Communications. Этот статус дал ему дополнительные рычаги влияния в политических и медийных кругах. Однако в дальнейшем почти весь 2008 год был потрачен на борьбу с раком. В этом несчастье его поддерживал широкий круг друзей, среди которых были и Блэр, и Браун, а также жена и дочери. Семья всегда играла значительную роль в его жизни.
В 2010 году он активно участвовал в кампании всеобщих выборов, после чего болезнь вернулась к нему. Его долгая и отнюдь не триумфальная битва с болезнью была трогательно воспроизведена в цикле статей, увидевших свет в газете «The Times». Незадолго до смерти он выпустил новое издание своей книги «Революция без конца», предисловие для которого написал Тони Блэр. В этой книге оба доказывают, что, если их партия когда-нибудь вернется к власти, она должна придерживаться обновленной стратегии «новых лейбористов».
Гоулд сыграл важную роль в реорганизации британских предвыборных кампаний, которая опосредованно повлияла и на политическую атмосферу в других европейских государствах. Как и многие другие советники, которым уготована роль политических «наркоманов», свою награду он видел в пафосе борьбы и в гордости за то, что его взгляды уважают и проводят в жизнь на самых высших уровнях.
Гоулд оставил после себя жену, леди Гейл Ребак, и двух дочерей.
Филип Гоулд, политолог и стратег, родился 30 марта 1950 года. Умер от рака 6 ноября 2011 года в возрасте 61 года.
Доктор Жервуа Андреев – консультант-гастроэнтеролог в больнице Ройял Марсден. Ведет активные исследования в области побочных эффектов при лечении рака.
Доктор Мюррей Ф. Бреннан – ведущий хирург-онколог в Онкологическом центре памяти Слоуна – Кеттеринга в Нью-Йорке.
Доктор Крэйг Карр – консультант в отделении реанимации (интенсивной терапии) в больнице Ройял Марсден.
Профессор Дэвид Каннингем – всемирно известный онколог, руководитель клиники желудочно-кишечных заболеваний при больнице Ройял Марсден.
Доктор Алистер Гасконь – заведующий отделом реанимации (интенсивной терапии) в больнице Ройял Виктория в Ньюкасле.
Доктор Конор Гиллан – анестезиолог в больнице Ройял Виктория в Ньюкасле.
Доктор Казимерж Мохлински – онколог, специализирующийся в области желудочно-кишечных онкологических заболеваний в больнице Ройял Марсден.
Мистер Сатвиндер Мудан – хирург-консультант и практикующий хирург-онколог в больнице Ройял Марсден.
Доктор Морис Слевин – консультант-онколог, практикующий в Лондоне.
Доктор Дэвид Стерджеон – консультант психотерапевтической службы в больнице Лондонского университетского колледжа.
Доктор Дайана Тейт – онколог-консультант в больнице Ройял Марсден.
1
Бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Тони Блэра, автор книги «Годы Блэра». – Примеч. редактора.
2
Глава консалтинговой и пиар-компании Freud Communication, зять медиа-магната Руперта Мердока. – Примеч. редактора.
3
London Clinic, крупнейшая частная клиника Лондона. – Примеч. редактора.
4
Видный деятель лейбористской партии Великобритании. – Примеч. редактора.
5
Есть шутливый молодежный лозунг: «Нас невозможно сбить с пути – нам все равно, куда идти». Мне он кажется близким по смыслу поэтическим переводом этого двустишия. Более того, первая половина этой фразы или вся фраза целиком подошла бы и для названия всей главы. Кстати, именно с этими веселыми словами я ехал на каталке в операционную всего год назад, и по такому же поводу. – Примеч. переводчика.
6
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – метициллин-резистентный золотистый стафилококк. – Примеч. редактора.
7
Бывший министр внутренних дел Великобритании. – Примеч. редактора.
8
Бывший министр здравоохранения Великобритании. – Примеч. редактора.
9
Это не рентгеновские лучи, а более жесткое облучение. – Примеч. переводчика.
10
Знаменитый велогонщик, который вернулся в профессиональный спорт после ракового заболевания. – Примеч. редактора.
11
Расслабуха. – Примеч. переводчика.
12
Канадский поэт, писатель, певец и автор песен. – Примеч. редактора.
13
Книга известной американской исследовательницы, посвященная вопросам танатологии. См.: Кюблер-Росс Элизабет. О смерти и умирании. София; Киев, 2001.
14
Валлийский поэт, драматург, публицист. – Примеч. редактора.
15
Система обмена сообщениями BlackBerry Messenger. – Примеч. редактора.
16
Британская супермодель и актриса – Примеч. редактора.
17
Там проводится ежегодный музыкальный фестиваль. – При меч. редактора.
18
Персонаж культового сериала «Звездные войны», мудрец и духовный авторитет. – Примеч. редактора.
19
Моя подруга совершенно выздоровела. Иная модница заплатила бы большие деньги за шикарную платиновую шевелюру, которую она отрастила после всех своих онкологических мытарств.
20
Персонаж романа Диккенса «Большие надежды». – Примеч. переводчика.
21
Шива – в иудаизме обычай семидневного глубокого траура. – Примеч. редактора.
22
Видеосервис в Интернете, запущенный Брауном, где подробно рассказывалось о деятельности британского кабинета министров и его председателя. – Примеч. редактора.